Советские журналисты: Выдающиеся журналисты XX – XXI вв.
Выдающиеся журналисты XX – XXI вв.
Курс разработан по заказу Института Пушкина Школой искусств и медиатехнологий Арины Шараповой при поддержке Министерства образования и науки РФ и Департамента образования города Москвы.
Авторы курса
Бит-Юнан Юрий Геваргисович – кандидат филологических наук, доцент кафедры литературной критики факультета журналистики РГГУ. Автор публикаций: «Василий Гроссман в зеркале литературных интриг», Между «Новым миром» и «Посевом»», Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение», «Интрига и судьба Василия Гроссмана», «The Road ed. by Robert Chandler; commentary and notes by Robert Chandler with Yury Bit-Yunan.
Давыдов Сергей Геннадьевич – кандидат философских наук, доцент, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Член ESOMAR, Российского союза журналистов, Российского общества социологов.
Есипова Ирина Феликсовна – заведующая кафедрой деловых коммуникаций в энергетике Корпоративного энергетического университета, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, председатель Комитета по коммуникациям в топливно-энергетическом комплексе Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), лауреат премии «Медиа-менеджер России», дипломант Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Калягин Борис Александрович – кандидат исторических наук, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики», действительный член Евразийской академии телевидения и радио. Журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио, лауреат премии им. В.В. Воровского, дипломант Евразийской академии телевидения и радио «За выдающийся вклад в создание и развитие телевидения и радио».
Фатеева Ирина Анатольевна – доктор филологических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО медиа- и информационной грамотности и медиаобразования граждан Московского педагогического государственного университета (Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования). Член Союза журналистов России, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России. Руководитель Экспертного совета Ассоциации специалистов медиаобразования России. Автор книг, редактор нескольких научных сборников, автор более 120 научных работ.
Фельдман Давид Маркович – кандидат филологических наук, доктор исторических наук, профессор кафедры литературной критики факультета журналистики Института Массмедиа РГГУ, российский историк и литературовед. Автор книг и статей о русской истории, литературе и журналистике XX века, истории политической терминологии.
Шариков Александр Вячеславович – кандидат педагогических наук, профессор Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, GEAR (Group of European Audience Recearch), EAAME (European Association of Audiovisual Media Education), NTC (National Telemedium Council, US), Российского общества социологов, Международного союза журналистов.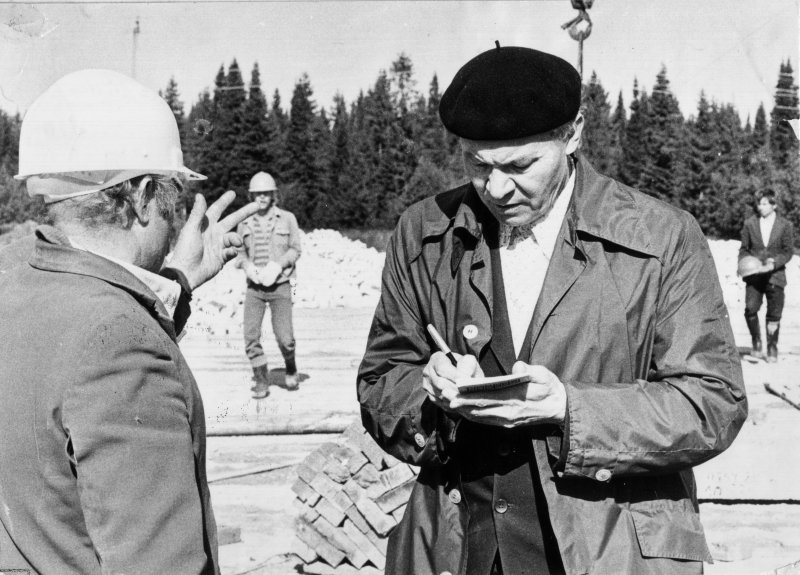
О курсе
Курс посвящен развитию журналистики в России от первых печатных изданий до интернета. История формирования и трансформации различных направлений журналистики рассматривается через призму жизни и творчества людей, определивших путь отечественной медиаиндустрии.
Журналисты – это рупор жизни страны; передовой отряд, отражающий тенденции настроений в обществе и политических элитах, четвертая власть, влияющая на мысли и чувства социума. Условия деятельности журналистов, стилистика их творчества неразрывно связаны с событиями, происходящими в государстве. Понимание направлений отечественной журналистики невозможно без знания исторического контекста. И в курсе уделено большое внимание описанию исторических периодов развития России.
Изменений технологий, появление новых форм коммуникаций: радио, телевидение, Интернет; расширяют пространство деятельности журналиста и видоизменяют его профессию. Содержание курса позволяет узнать, как технические инновации влияют на появление новых направлений в журналистике.
Структура курса
Модуль 1. Дореволюционная журналистика
Общая характеристика
Медиаландшафт начала XX века
Коммерческие издания в дореволюционной России
Правительственная пресса
Персоналии
Консервативная пресса
Либеральная пресса начала XX века
Дореволюционные издания
Сатира
Модуль 2. Революционная журналистика в 1917 году
Хронология событий
Общая характеристика
Персоналии
Модуль 3. Журналистика первого послеоктябрьского десятилетия
Печать периода гражданской войны
Журналистика периода нэпа
Пресса эмиграции первой волны
Модуль 4. Сталинская эпоха. Журналистика 30-х годов XX столетия
Система советской печати 30-х годов XX столетия
Сталинская эпоха. Персоналии
Начало репрессий
Журналистика конца 30-х годов XX столетия
Модуль 5.
Итоги военного периода журналистики
Послевоенная пропаганда
Последние сталинские процессы
Журналистика как барометр: первое послевоенное десятилетие
Яркие страницы журналистики и публицистики второй половины 40-х – начала 50-х годов XX века
Жизнь и творчество Валентина Овечкина.
Модуль 6. Журналистика периода оттепели
Оттепель. Историко-культурный контекст
«Новый мир» К.М. Симонова и «Юность» В.П. Катаева в историко-культурной ситуации 1950-х годов
Журналистика периода оттепели. XX съезд КПСС
Восстание в Венгрии 1956 года и советские печатные СМИ
Значение дела А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля в истории советской печатной журналистики 60-х годов XX столетия
Модуль 7. Журналистика эпохи застоя
Общая характеристика журналистики эпохи застоя
Диссидентская журналистика
Журналистика третьей волны эмиграции
Модуль 8. Советская международная журналистика 1970-1980-х годов
Советская международная журналистика 1970-1980-х годов
Международная журналистика 1970-1980-х годов
Международная журналистика
Модуль 9. Журналистика эпохи перестройки 1985-1991 годов
Эпоха перестройки и журналистика
СМИ в эпоху перестройки
Журналисты перестройки
Модуль 10. Журналистика конца 1990-х годов
Политические условия формирования новой медиасистемы
Журналистика 1990-х годов. Персоны
Журналисты в 1990-е годы
Модуль 11. Медиасистема начала XXI века
Журналистика начала XXI века. Исторический фон. Медиасистема России
Топ-менеджеры российского телевидения
Современные тележурналисты
2000-е годы. Интернет
Целевая аудитория курса
Школьники старших классов, абитуриенты, студенты вузов, специализирующихся в области журналистики, медиакоммуникаций, рекламы и связей с общественностью, а также преподаватели школ, высших учебных заведений и дополнительного образования, и все, кто интересуется историей и историей журналистики в России.
Необходимый уровень подготовки
Владение базовыми знаниями в области истории России, стилистики русского языка.
Длительность курса
72 академических часа
Результаты изучения курса
В результате изучения курса слушатели:
- будут знать историю выдающихся журналистов, ведущих представителей издательского дела, корреспондентов, деятелей искусства XX века и медиабизнеса XXI века;
- будут иметь представление о процессах, формировавших специфику прессы СССР и России разных эпох;
- смогут отличать исторические периоды: дореволюционный, период гражданской войны, военного коммунизма и т.д..
Советские журналисты на Великой Отечественной войне
23.01.2020 14 января начался новый сезон открытого бразовательного проекта факультета журналистики МГУ на ВДНХ, посвящённый журналистике и СМИ военного периода и году 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Ольга Дмитриевна объяснила, почему военная журналистика для современного человека выглядит противоречивой, необъективной и предвзятой. Как выяснилось в ходе лекции, на это были свои причины.
Система советских СМИ подвергалась серьезной цензуре, требования которой были жёсткими. Цензура объясняется сложностью военной ситуации, неправильно выбранный пропагандистский посыл мог играть большую роль. СМИ хорошо управлялись и быстро меняли вектор своего контента, что и помогло в годы Великой Отечественной войны.
Ольга Дмитриевна отметила, что манипулирование информацией – типичная ситуация для воины (например, потери врага преувеличивались).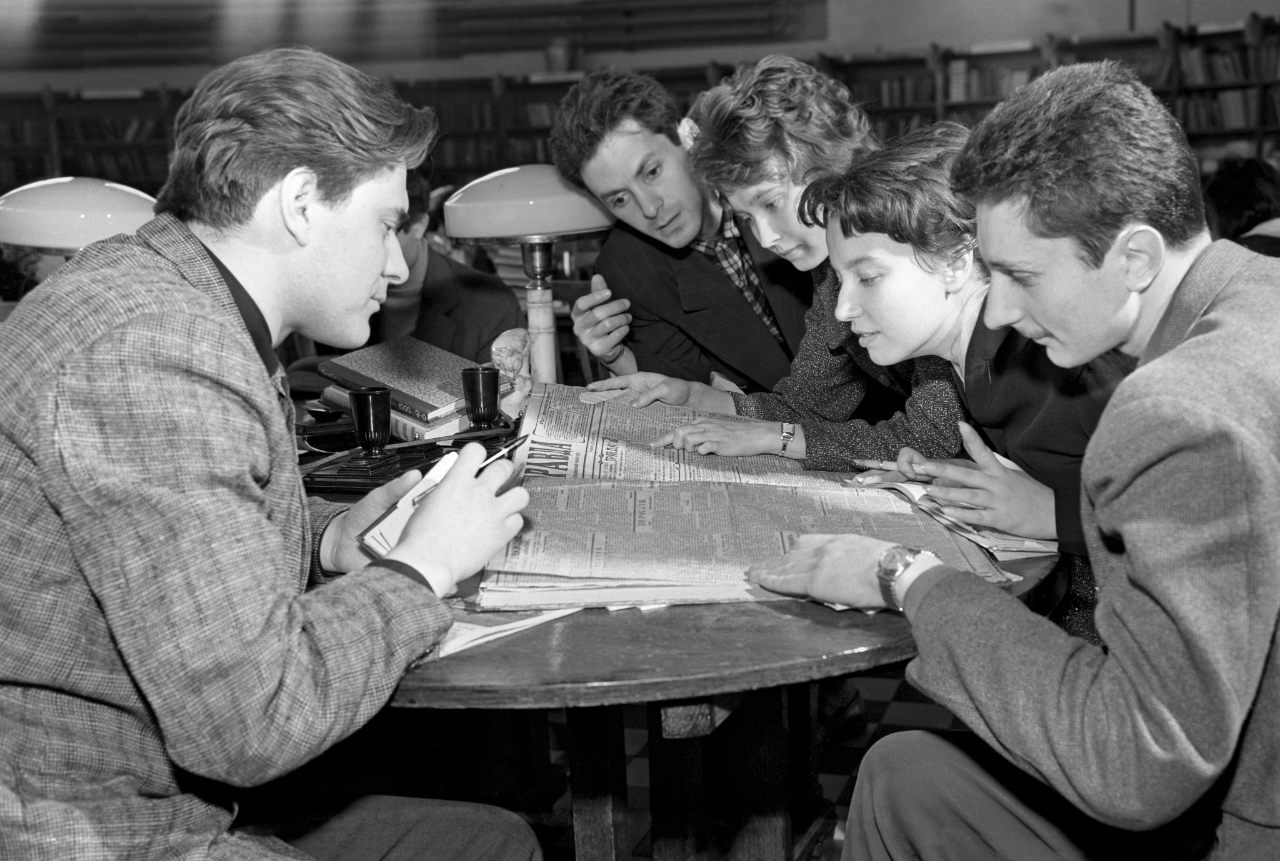 В годы войны традиционное содержание прессы стало неактуальным и малозначимым. С июня советские газеты начали публиковать (а радио передавать) сводки Совинформбюро. По словам Ольги Дмитриевны, сводки первых недель войны не отражали событий, происходящих на фронте, потому что содержали прямые ошибки и неубедительные факты. Кроме того, они несколько отставали от того, как реально двигался фронт.
В годы войны традиционное содержание прессы стало неактуальным и малозначимым. С июня советские газеты начали публиковать (а радио передавать) сводки Совинформбюро. По словам Ольги Дмитриевны, сводки первых недель войны не отражали событий, происходящих на фронте, потому что содержали прямые ошибки и неубедительные факты. Кроме того, они несколько отставали от того, как реально двигался фронт.
«Это связано не столько с задачами пропаганды, сколько с тем, что не могли сразу наладить систему сбора информации с фронтов, журналисты не могли охватить все события, которые там происходили. К тому же в первые дни войны было не совсем понятно, что писать и как писать и как сообщать о наших поражениях», — сказала Ольга Дмитриевна.
Основным ресурсом пропаганды были именно журналисты и художники, рисовавшие плакаты и карикатуры. Порой газеты становились похожи на современные комиксы. Однако перед прессой, в первую очередь, ставилась задача поднимать боевой дух.
На фронт журналисты шли добровольцами или призывались как специалисты по пропаганде и воевали так же, как и солдаты. Они могли носить личное оружие, а так же имели специальные военные документы и форму, которая помогала проще передвигаться по фронту. В основном отправлялись опытные журналисты, такие как Константин Симонов и Василий Гроссман.
Так как система подготовки и отправки военных корреспондентов на фронт не была отлажена, многие из них не добирались до места боев. Всего в командировке на фронт погибло 225 журналистов. Среди них А. П. Гайдар, Е. П. Петров и Л. А. Карастоянова.
Перед журналистами, отправившимся освещать войну, стояло несколько задач:
- объяснить цель и характер войны, ответить на вопрос, что мы защищаем и от кого мы защищаем;
- поднять моральный дух бойцов, помочь им победить страх перед врагом, воспитать ненависть, необходимую для его уничтожения;
- ярко и доступно описать примеры героизма солдат и офицеров;
- осмыслить и отобразить в художественной форме чувства и мысли воюющего народа;
- зафиксировать множество разрозненных фактов, записать рассказы непосредственных участников событий;
- отразить свои впечатления как очевидцев событий.

Эти задачи, требования военной цензуры, а также творческий и жизненный опыт военного журналиста определяли содержание его публикаций. И. Г. Эренбург писал о немцах, А. Н. Толстой изображал Родину, а Б. Л. Горбатов, Б. Н. Полевой, В. С. Гроссман описывали подвиг солдата. Каждая из тем раскрывалась определенным образом: Родина показывалась как русская, советская, «малая», общая; враг — отвратительный, безжалостный, несправедливый; а подвиг — ежеминутный сознательный риск, страдание или порыв.
Радиовещание во многом заменяло бумажную прессу, так как большинство людей не могли по привычке читать газету утром. Информационные передачи стали занимать гораздо больше эфирного времени. В печатных СМИ все же превалировала беллетристика, поскольку журналистам сложно было раскрыть все темы в информационном ключе.
Текст: Ксения Трусова, Мария Уросова.
Фото: Георгий Никаноров.
Памяти российских журналистов 18 имен, которые нельзя забыть — Российское фото
В России есть две основные даты, посвященные журналистике: 13 января — День российской печати и 15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Вспомним имена талантливейших российских журналистов, погибших во имя правды.
По мнению главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, «журналистика по-прежнему остается наиболее опасной профессией». Одним из самых громких за последние несколько лет преступлений против работников СМИ стало убийство ведущего программы «Вести. Кабардино-Балкария» республиканского филиала ВГТРК Казбека Геккиева 5 декабря 2012 года, отмечает Павел Гусев.
«Мы чтим память Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других талантливых российских журналистов. Сегодня главная задача для всего общества заключается в том, чтобы такие трагические случаи больше не повторялись», — заявил Гусев в интервью ИТАР-ТАСС.
В 2012 году, по данным Международного института прессы (International Press Institute, IPI), в мире погибло рекордное за последние годы количество журналистов — 119 человек. Самыми опасными странами для освящения событий оказались Сирия и Сомали. В России же, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров.
Во всех регионах России сегодня пройдут вечера памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В Москве работников СМИ вспомнят в Центральном Доме журналиста. «Этот грустный день напоминает всем нам о том, насколько хрупка человеческая жизнь и как быстро и внезапно она может оборваться. Мы вспоминаем в этот день также и о том, насколько опасна профессия журналиста», — отметили в Союзе журналистов России. «15 декабря — особый день в жизни нашего сообщества, не только день скорби и светлой памяти, это также день, в который особенно остро звучит и гордость за нашу профессию», — подчеркнули в объединении.
Мы вспоминаем в этот день также и о том, насколько опасна профессия журналиста», — отметили в Союзе журналистов России. «15 декабря — особый день в жизни нашего сообщества, не только день скорби и светлой памяти, это также день, в который особенно остро звучит и гордость за нашу профессию», — подчеркнули в объединении.
В память о российских журналистах, отдавших свою жизнь за свободу слова, в 2001 году была учреждена премия имени Артема Боровика за лучшее журналистское расследование. По словам организаторов конкурса, призванного поддержать самых отважных и талантливых представителей российских СМИ, «журналистика — это отчаянная профессия, в которую идут лучшие люди».
Во всем мире погибших журналистов поминают 3 мая во Всемирный день свободы печати. К этому дню приурочено вручение премии имени колумбийского журналиста и редактора Гильермо Кано, учрежденной исполнительным советом ЮНЕСКО. Премия присуждается ежегодно человеку или организации, внесшим вклад в защиту или развитие свободы прессы в любой точке мира.
Артем Боровик (13 сентября 1960 — 9 марта 2000)
Российский журналист, в качестве президента возглавлял издательский холдинг «Совершенно секретно».
Работал журналистом в различных советских изданиях, в том числе в газете «Советская Россия» и в журнале «Огонёк» (1987–1991), по заданию которого несколько раз ездил в Афганистан. Автор книги «Спрятанная война», посвящённой войне в Афганистане.
В 1988 году некоторое время служил в армии США в рамках эксперимента, в ходе которого советский журналист направлялся в американскую армию, а американский — в советскую.
О своём армейском опыте написал книгу «Как я был солдатом американской армии». Вместе с коллегой по «Совершенно секретно» Евгением Додолевым вёл известную в своё время передачу «Взгляд».
9 марта 2000 года Артём Боровик погиб в результате авиационной катастрофы, при падении самолёта Як-40, совершавшего рейс Москва — Киев, на борту которого также находился глава компании «Группа „Альянс“» Зия Бажаев.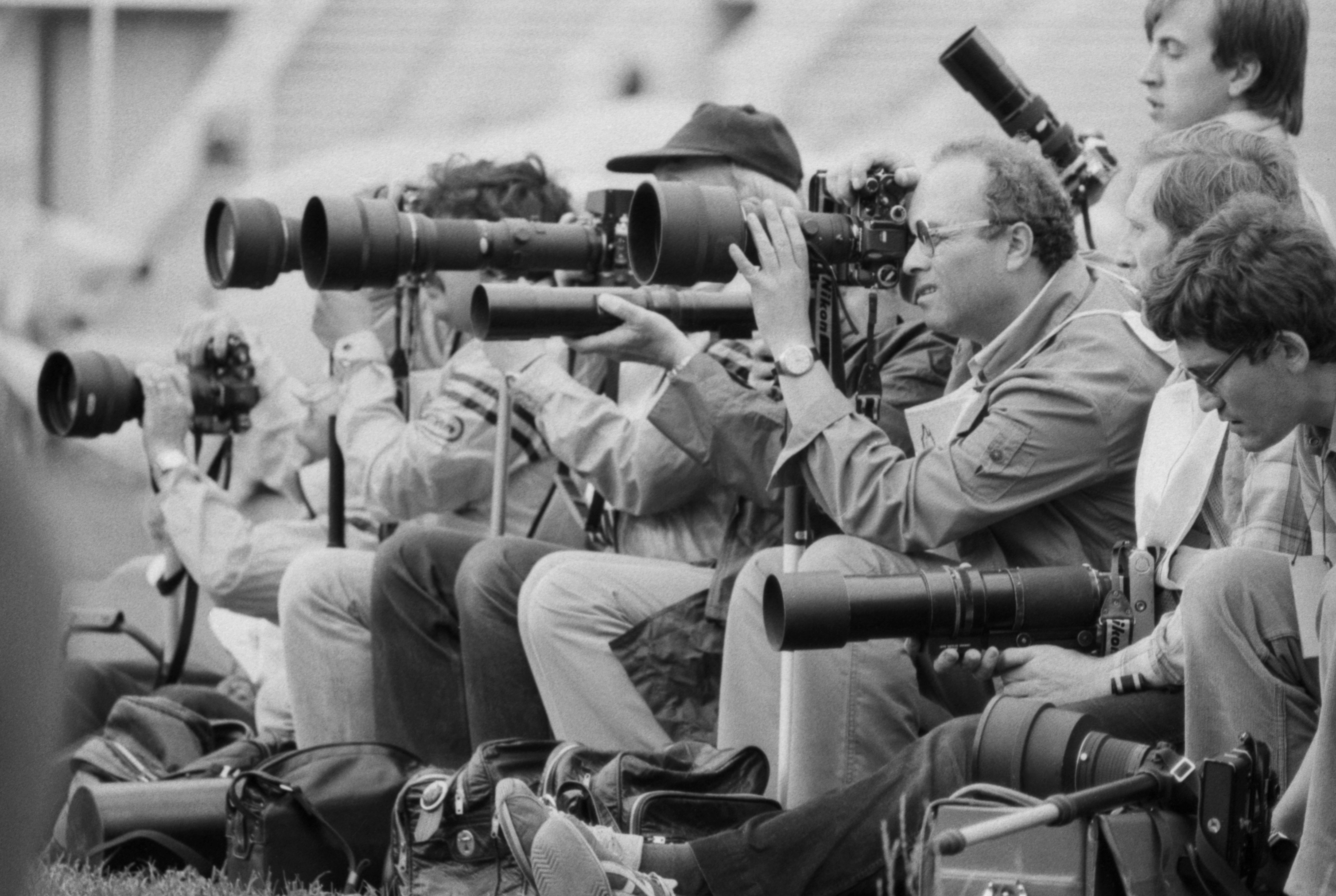
Все 9 человек, включая 5 членов экипажа, погибли. Похоронен на Новодевичьем кладбище (10-й участок). Кристина Курчаб-Редлих утверждала, что Боровик и Бажаев летели за детскими фотографиями Путина.
Владислав Листьев (10 мая 1956, Москва — 1 марта 1995, Москва)
Советский и российский телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор ОРТ.
«Безусловно, он обладал главным талантом ведущего, а именно, умением „пробить“ экран и оказаться сидящим рядом с каждым отдельно взятым зрителем…, — вспоминает о Листьеве Владимир Познер. — Каждый раз, когда он был ведущим, программа получала совершенно колоссальную популярность… Он нашёл ключ к зрителю, умел этого зрителя заинтересовать, и делал он это в высокой степени профессионально».
Вечером 1 марта 1995 года, при возвращении со съёмок программы «Час пик», Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Первая пуля попала в руку, вторая — в голову. Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что позволило следователям предположить, что убийство связано с деловой или политической деятельностью телеведущего.
Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что позволило следователям предположить, что убийство связано с деловой или политической деятельностью телеведущего.
Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Первый канал и Российская академия телевидения учредили 1 марта 2010 года премию за заслуги в развитии Российского телевидения имени Влада Листьева. Она будет присуждаться раз в год. Первый лауреат премии имени Влада Листьева был назван 25 ноября 2010 года. Им стал известный журналист и телеведущий Леонид Парфёнов.
Дмитрий Холодов (21 июня 1967, Загорск — 17 октября 1994, Москва)
Российский журналист. С августа 1992 года работал корреспондентом газеты «Московский комсомолец». Писал о современной российской армии, побывал во многих горячих точках — в Абхазии, Чечне, Азербайджане, на таджикско-афганской границе. Журналист был известен своими публикациями о коррупции в российской армии. В своих материалах он неоднократно подвергал критике министра обороны Павла Грачёва, которого обвинял в причастности к коррупционному скандалу в Западной группе войск.
17 октября 1994 года Дмитрий Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, находящейся в портфеле-дипломате. Смерть наступила в результате травматического шока и обескровливания. По свидетельству коллег, Холодов предполагал, что в дипломате, полученном в камере хранения на Казанском вокзале, находятся документы о нелегальной торговле оружием.
Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Посмертно удостоен премией Союза журналистов России и «За свободу прессы» (обе — в 1994 году).
Лариса Юдина (22 октября 1945, Элиста — 7 июня 1998, Элиста)
Советская и российская журналистка, главный редактор газет «Советская Калмыкия», а затем «Советская Калмыкия Сегодня», политический деятель, сопредседатель калмыцкой региональной организации движения «Яблоко».
Лариса Алексеевна была убита 7 июня 1998 года. На её теле были обнаружены многочисленные ножевые ранения, кроме того, у неё был проломлен череп. Двое из мужчин, причастных к убийству и затем осуждённых, были помощниками Илюмжинова.
Двое из мужчин, причастных к убийству и затем осуждённых, были помощниками Илюмжинова.
Указом Президента РФ 10 сентября 2000 года «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга» была посмертно награждена «Орденом мужества».
Анна Политковская (урождённая Мазепа; 30 августа 1958, Нью-Йорк — 7 октября 2006, Москва)
Российская журналистка, правозащитница. Уделяла особое внимание конфликту в Чечне.
С 1999 года — специальный корреспондент и обозреватель «Новой газеты». Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий. За серию репортажей о военных действиях в Чечне в январе 2000 года Анне Политковской присуждена премия «Золотое перо России».
Ей присуждались: премия Союза журналистов РФ «Добрый поступок — доброе сердце», премия Союза журналистов за материалы по борьбе с коррупцией, диплом «Золотой гонг-2000» за серию материалов о Чечне.
Политковская — автор документальных книг о ситуации в Чечне в 1999-м году «Путешествие в ад. Чеченский дневник» (2000), «Вторая чеченская» (2002), «Чечня: позор России», а также статей «Карательный сговор», «Люди исчезающие». Последняя её публикация в «Новой газете» — «Карательный сговор» — была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил.
Чеченский дневник» (2000), «Вторая чеченская» (2002), «Чечня: позор России», а также статей «Карательный сговор», «Люди исчезающие». Последняя её публикация в «Новой газете» — «Карательный сговор» — была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил.
Многие из книг Политковской были переведены на иностранные языки и изданы за рубежом. Автор книг «Putin’s Russia» («Путинская Россия»), «Россия без Путина», опубликованных в Великобритании.
В сентябре-начале октября 2006 года Анна Политковская значительно активизировала аналитико-журналистскую деятельность, в свете приближающихся парламентских выборов 2007 года и президентских 2008.
Помимо журналистики, Политковская занималась правозащитной деятельностью, помогала матерям погибших солдат отстаивать свои права в судах, проводила расследования коррупции в Министерстве обороны, командовании Объединённой группировки федеральных войск в Чечне, помогала жертвам Норд-Оста.
Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы (Лесная улица, дом 8) 7 октября 2006 года, в день рождения Владимира Путина. Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом. Первые сведения указывали на заказное убийство, так как было произведено четыре выстрела, включая выстрел в голову.
Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом. Первые сведения указывали на заказное убийство, так как было произведено четыре выстрела, включая выстрел в голову.
Наталья Эстемирова (28 февраля 1958, Камышлов, Свердловская область — 15 июля 2009, Гази-Юрт, Ингушетия)
Российская правозащитница, журналист, сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном.
До 1998 года работала учителем истории в грозненской школе № 7, затем занялась правозащитной журналистикой.
В начале второй чеченской войны работала в Грозном, с 2000 года — сотрудница представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном.
В 2004 году была удостоена премии «Правильная жизнедеятельность» на церемонии в здании Шведского парламента.[6] В 2005 Европейская народная партия — Европейские демократы наградила Эстемирову и председателя Мемориала Сергея Ковалёва медалью имени Робера Шумана.
В 2007 году Инициатива Нобелевских Женщин вручила Эстемировой «Награду Анны RAW in WAR».
Наталья Эстемирова входила в Комиссию по условиям содержания в местах лишения свободы.
Её сторонники считают, что она вела борьбу с фальсификацией уголовных дел, посещая следственные изоляторы, активно боролась с практикой пыток, вела расследования похищений и внесудебных казней.
По сообщению руководителя московского бюро Human Rights Watch Татьяны Локшиной, Эстемирову похитили 15 июля 2009 года возле её дома в Грозном около 08:30. Её коллеги по правозащитной деятельности подняли тревогу, когда она не пришла на заранее оговорённую встречу, приехали к дому, нашли и опросили свидетелей.
По данным коллег погибшей «Два свидетеля видели с балкона, как на улице Богдана Хмельницкого в Грозном, где проживает Наташа, её затолкнули в белый автомобиль марки ВАЗ, она успела крикнуть, что её похищают».
Как сообщил пресс-секретарь следственного комитета прокуратуры России Владимир Маркин, тело женщины с пулевыми ранениями в голову и грудь было обнаружено в 16:30 (по данным МВД Ингушетии — в 17:20) по времени Москвы в лесополосе в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии.
В её сумке находились паспорт, удостоверение члена экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека РФ по Чеченской республике и мандат общественного наблюдателя комиссии по общественному контролю в местах принудительного содержания на имя Натальи Эстемировой.
Анастасия Бабурова (30 ноября 1983 года, Севастополь — 19 января 2009 года, Москва)
Российская журналистка, поэт, гражданка Украины, вместе со Станиславом Маркеловым стала жертвой громкого убийства. Анастасия училась на факультете журналистики МГУ, работала в газете «Известия» и была внештатным сотрудником «Новой газеты».
На протяжении 2008 года Анастасия работала в редакции «Известия», опубликовав в газетах «Известия» и «Финансовые известия» десятки статей, посвящённых, в основном, деловой тематике. В декабре 2008 года журналистка уволилась из редакции из-за разногласий с политическим курсом газеты, который, по мнению еженедельника «The Economist», характеризуется «национализмом, конформизмом и цинизмом».
Сотрудничала с «Российской газетой» и газетой «Вечерняя Москва», сетевым изданием «Частный Корреспондент», журналом «Созвездие».
С октября 2008 года — внештатный сотрудник «Новой газеты». Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил, что Анастасия целенаправленно занималась неформальными молодёжными движениями, в том числе, неонацистскими и рассказывает, что она «пришла к нам со своей темой… Тема не лучшая с точки зрения безопасности или звёздности. Скинхеды, антифа, неформальные уличные акции».
Публикации Анастасии в «Новой газете» были посвящены экологическим проблемам и проблемам жестокого отношения к животным, злоупотреблениям в правоохранительных органах, антифашистскому движению, деятельности неонацистов.
Последней — посмертной — публикацией Анастасии стало интервью со Станиславом Маркеловым, посвящённое проблемам правосудия и делу Буданова. По мнению коллег Анастасии, «мало кто разбирался в неонацизме, антифашизме, неформальных молодёжных объединениях лучше нее».
Анастасия Бабурова была смертельно ранена 19 января 2009 года и скончалась в реанимации Первой Градской больницы в тот же день, не приходя в сознание. Существуют две основные версии убийства Анастасии: по наиболее распространённой, журналистка была смертельно ранена, пытаясь после гибели Маркелова остановить киллера: Анастасия занималась спортом, хорошо владела приёмами самообороны, и, предположительно, имела при себе нож.
По другой версии, высказанной заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым, в Анастасию стреляли целенаправленно. Эту версию подтвердил в ходе допросов и её убийца — Никита Тихонов. По данным агентства Life News, эксперты установили, что Бабурова, как и Маркелов, была застрелена в затылок с близкого расстояния, а по сведениям главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, пуля попала в висок.
Нападение убийцы произошло 19 января немногим ранее 14:25, но автомобиль скорой медицинской помощи был вызван только в 15:05, через 40 минут после выстрелов. По мнению родителей Анастасии, более ранний вызов скорой медицинской помощи мог бы спасти жизнь их дочери.
По мнению родителей Анастасии, более ранний вызов скорой медицинской помощи мог бы спасти жизнь их дочери.
Никитa Тихонов признан виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, пригoвopeн к пожизненному заключению. Евгения Хасис приговорена к 18 годам заключения за соучастие в убийстве.
Журналисты, погибшие в 2012-2014 ггКазбек Геккиев
Казбек Геккиев проработал на республиканской студии телевидения чуть больше года. Начинал репортером, но вскоре пошел на повышение. Талантливому журналисту предложили вести вечерние новости.
Первая явная угроза в адрес сотрудников кабардино-балкарского телевидения появилась на одном из экстремистских сайтов около полугода назад. Боевикам не понравилось, с каким выражением лица ведущие новостей комментировали новость об очередной спецоперации. Казбек не занимался журналистскими расследованиями и не писал разоблачительных репортажей об экстремистах. Поэтому его убийство выглядит абсолютно бессмысленно.
Поэтому его убийство выглядит абсолютно бессмысленно.
Убит вечером 5 декабря 2012 года в Нальчике выстрелом в голову.
Казбек шел на свидание к своей девушке. Они встретились на улице Кирова в центре Нальчика. Беседуя, молодые люди покинули оживленную улицу и зашли в переулок. В этот момент к ним подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Сначала они спросили адрес, а потом поинтересовались у Казбека, действительно ли он ведущий новостей. Затем они расстреляли журналиста в упор. Две пули попали ему точно в голову. Убийцы, скорее всего, следили за Казбеком, выбирая удобный момент для нападения. Спутницу журналиста преступники не тронули.
Михаил Бекетов (10 января 1958, Ставропольский край — 8 апреля 2013, Химки)
Российский журналист, главный редактор и учредитель газеты «Химкинская правда».
В 2007 году на собственные средства стал издавать газету «Химкинская правда». В ней он публиковал критические статьи о деятельности администрации Химок, в частности привлек внимание общественности к ситуации с могилами летчиков у Ленинградского шоссе и освещал борьбу за сохранение Химкинского леса. Михаилу Бекетову неоднократно угрожали.
Михаилу Бекетову неоднократно угрожали.
В мае 2008 года была взорвана его машина. Когда же Бекетов высказал предположение, что в акции устрашения были заинтересованы чиновники химкинской администрации, в частности мэр Химок Владимир Стрельченко, против него было возбуждено уголовное дело по статье о клевете.
«Репортёры без границ» наградили М. Бекетова премией «Press Freedom Award».
31 октября 2011 года Михаилу Бекетову была присуждена премия Правительства РФ в области печатных СМИ. Вручение премии состоялось в январе 2012 года. После вручения премии Путин лично поздравил журналиста, и, по словам его помощников, пообещал активизировать расследование дела об избиении.
13 ноября 2008 года Михаил Бекетов был избит неизвестными. После этого он долгое время находился на лечении в НИИ им. Склифосовского и получил инвалидность 1-й группы. Ему были ампутированы три пальца на левой руке и правая нога, также была проведена операция в ЦИТО по извлечению из мозга осколков кости.
В июне 2010 года Бекетов вернулся домой после полутора лет, проведённых в медицинских учреждениях. Фонд помощи Бекетову нашёл ему сиделку, его также посещали медицинские специалисты. Представители подмосковного ГУВД пообещали оказать содействие в обеспечении безопасности Бекетова.
Михаил Бекетов умер 8 апреля 2013 года. По сведениям «Газеты.ру», журналист находился на обследовании в больнице и подавился во время приема пищи, что повлекло за собой сердечный приступ, ставший причиной смерти. Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти журналиста, указав на то, что она стала результатом несчастного случая.
Николай Потапов
Вечером 18 мая 2013 года 66-летний экс-глава Пригородного сельсовета, редактор газеты «Сельсовет» Николай Потапов вышел из дома в хуторе Быкогорка (Ставропольский край) и сел в принадлежащий ему автомобиль «Ока», где дожидался свою супругу. В это время неизвестный в черной маске произвел в него не менее пяти выстрелов в упор из огнестрельного оружия.
Николай пользовался авторитетом среди жителей района, краевые власти его неоднократно пытались сместить с должности. Знаменитым он стал после того, как объявил голодовку в своём рабочем кабинете, требуя от прокуратуры выполнения законов. Краевые власти не устраивала его принципиальная позиция по продаже земельных участков в пригороде курортного Железногорска представителям этнических группировок, действующих на территории Ставропольского края.
После увольнения 66-летний активист продолжил выпускать газету «Сельсовет», которая пользовалась популярностью, потому что он там освещал деяния местной власти, действия сотрудников полиции и активность этно-группировок, публиковался публиковал материалы в «Открытой газете». Сообщается также о неоднократных угрозах в его адрес. По данным следствия, задержаны трое жителей Буденовского района 26, 30 и 34 лет, родные братья. Установлено, что один из подозреваемых ранее проходил службу в органах внутренних дел. Задержали преступников случайно — они отказались останавливаться по требованию ГИБДД, а когда за ними погнались, бросили машину и пытались убежать в лес.
Ахмеднаби Ахмеднабиев
Журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев был расстрелян 9 июля 2013 года утром в 50 метрах от своего дома в селе Семендер в Дагестане. Погиб от нескольких пулевых ранений в голову.
В мае 2012 года Ахмеднаби Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес. А 11 января неизвестные произвели три выстрела в Ахмеднабиева, но пули прошли мимо и журналист не пострадал.
Имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в «расстрельном списке» — листовках, распространенных в сентябре 2009 года по столице Дагестана, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. В этот список попали известные в Дагестане адвокаты, журналисты и правозащитники — всего 16 человек.
В списке был, в том числе издатель дагестанского еженедельника «Черновик» Гаджимурад Камалов, убитый 15 декабря 2011 года. Покушение на Ахмеднабиева обсуждалось на пресс-конференции, посвященной безопасности журналистов, с участием представителей СМИ, общественных организаций и руководителей органов власти Дагестана, которая состоялась 14 января в Махачкале.
Константин Бауэр
29 марта 2013 года поздно вечером 32-летний журналист Константин Бауэр возвращался из ресторана домой. Встретившийся ему мужчина затеял с ним ссору и избил. Журналист позже скончался в больнице от черепно-мозговых травм. Полиции удалось найти очевидцев драки, которые описали преступника.
В начале апреля полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, ранее неоднократно судимый и находившийся в розыске по подозрению в совершении кражи. Парень признался, что участвовал в конфликте, заявив, что не имел намерения причинить тяжкий вред здоровью журналисту. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил обвиняемого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Александр Ходзинский
Был найден убитым 7 июля 2012 года в Тулуне.
Подозреваемый по делу — 57-летний пенсионер Геннадий Жигарев. Несколько лет назад он занимал должность заместителя главы администрации Тулуна, позже был руководителем одного из предприятий города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
Несколько лет назад он занимал должность заместителя главы администрации Тулуна, позже был руководителем одного из предприятий города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
В течение нескольких последних лет Ходзинский вел открытую борьбу против многочисленных злоупотреблений и нарушений, допущенных должностными и иными лицами при строительстве (с 2006 года) и эксплуатации здания рынка «Созвездие» в городе. Много раз Ходзинский выступал в местной прессе с публикациями на эту тему.
Рамазан Новрузалиев
Рамазан был известным в кавказском интернет-сообществе блогером, главным бухгалтером Республиканского Информационного Агентства (РИА) «Дагестан».
В апреле 2012 года Рамазан Новрузалиев был приглашен в банкетный зал ресторана «Хаял» на деловую встречу, которая вскоре переросла в разговор на повышенных тонах и завершилась выстрелом в Новрузалиева.
Он был срочно госпитализирован, но врачи не смогли спасти жизнь потерпевшему, который скончался в больнице. Как установило следствие, стрелявшим оказался житель Москвы, сын владельца банкетного зала, 1991 года рождения.
Как установило следствие, стрелявшим оказался житель Москвы, сын владельца банкетного зала, 1991 года рождения.
Виктор Афанасенко
Шеф-редактор газеты «Коррупция и преступность» умер 24 января 2012 года в больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону в результате преступного нападения.
По словам руководителя издания «Преступность и коррупция» Сергея Слепцова, в последнее время Виктор Афанасенко занимался расследованием случаев земельного рейдерства в Кущевском районе Краснодарского края, а также на юге Ростовской области.
Хаджимурад Камалов
Хаджимурад был убит 15 декабря 2012 года. Журналист выбрал позицию защиты прав и свобод жителей республики и со страниц своей газеты, используя все законные методы, жестко требовал от силовиков расследовать преступления в Дагестане. Из-за этого ему не раз приходилось вступать в конфликт с коррумпированной номенклатурой и руководством силовых структур. Кроме того, Камалов активно защищал права верующих.
Кроме того, Камалов активно защищал права верующих.
С момента создания газеты ее записали в оппозиционные СМИ. Редакция «Черновика» неоднократно подвергалась судебным преследованиям, ее пытались закрыть, но все суды газета выиграла. Статьи Хаджимурада Камалова, где он давал оценку социально-политической ситуации в Дагестане, публиковали ведущие российские и зарубежные издания.
Анатолий Битков
Главный редактор телеканала «Колыма плюс» был убит 22 июня 2012 года. На теле потерпевшего были обнаружены множественные телесные повреждения в виде колото-резанных ран, от которых, предположительно, наступила смерть.
37-летний журналист, несколько лет возглавлявший телекомпанию, был в регионе человеком весьма известным, По подозрению в убийстве журналиста задержан ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления 22-летний житель Магадана. По версии следствия, в ночь на 22 июня в квартире Биткова «между хозяином жилья и подозреваемым возник конфликт на почве личной неприязни». Подозреваемый нанес журналисту множественные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия.
Подозреваемый нанес журналисту множественные удары ножом, после чего скрылся с места происшествия.
Яхъя Магомедов
Журналист исламской газеты «Ас-Салам» был убит 8 мая в Хасавюртовском районе Дагестана. Журналист находился в гостях у своего двоюродного брата — сотрудника милиции, и когда вышел во двор его дома, то неизвестные открыли по нему огонь.
От полученных ранений Магомедов скончался на месте. Возможно, преступники перепутали Магомедова с его родственником — сотрудником милиции, которому ранее неоднократно угрожали расправой.
Андрей Стенин (22 декабря 1980 — 6 августа 2014)
Российский журналист, фотокорреспондент. Работал корреспондентом «Российской газеты» (с 2003), в «Газете.ru», фотокорреспондентом РИА Новости (с 2009). С 2014 года — специальный фотокорреспондент Объединённой дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня». Специализировался на съёмке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других регионах. 6 августа 2014 года погиб, находясь в командировке на Украине, став четвёртым российским журналистом, убитым на Украине в ходе Вооружённого конфликта на востоке Украины. Смерть Стенина вызвала большой общественный резонанс. Посмертно награждён орденом Мужества.
Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других регионах. 6 августа 2014 года погиб, находясь в командировке на Украине, став четвёртым российским журналистом, убитым на Украине в ходе Вооружённого конфликта на востоке Украины. Смерть Стенина вызвала большой общественный резонанс. Посмертно награждён орденом Мужества.
По материалам Сalend.ru, ИТАР-ТАСС, Википедии, Фонда помощи журналистам имени Михаила Бекетова
Советские журналисты и Радио Свобода
СОВЕТСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ И РАДИО СВОБОДА
SEMYON MIRSKY
Американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей знаменитой статье «Конец истории?» писал, что «холодная война закончилась, причем закончилась она победой Запада». Утверждение Фукуямы представляется мне спорным по целому ряду причин. Уместен даже вопрос: а была ли вообще холодная война? И если она была, то победил ли в ней Запад или, что представляется более вероятным, советская система, зашедшая в тупик, разбила сама себя?. .. (Эти строки были уже мною написаны, когда вчера сидевший за этим же столом Анатолий Иванович Стреляный сказал: «социализм не выдерживает миролюбия, ибо система держится на насилии».) Если «холодная война», повторяю, была, то она велась совершенно разными методами, и в этом мне видится моральный смысл противостояния: правда, правдивая информация о стране и мире оказалась великой силой.
.. (Эти строки были уже мною написаны, когда вчера сидевший за этим же столом Анатолий Иванович Стреляный сказал: «социализм не выдерживает миролюбия, ибо система держится на насилии».) Если «холодная война», повторяю, была, то она велась совершенно разными методами, и в этом мне видится моральный смысл противостояния: правда, правдивая информация о стране и мире оказалась великой силой.
Почему я начал именно с вопроса о «холодной войне»? — Ответ прост: со времени своего основания в начале 50-х годов до прекращения глушения наших передач в ноябре 1988-го Радио Сюбода последовательно изображалось советской пропагандой как «орудие холодной войны», а его сотрудники — в зависимости от стоявшей на дворе погоды — квалифицировались как «недобитые белогвардейцы, бывшие каратели, агенты ЦРУ», а в последние годы все чаще как «агенты международного сионизма»… Все это кончилось в один прекрасный день 29-го ноября 1988-го года, то есть в день, когда было прекращено глушение наших передач, глушение, на которое Советский Союз тратил, кстати, больше денег, чем тратили Соединенные Штаты на сами передачи.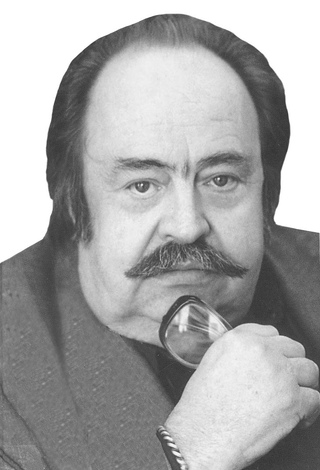
Ну а теперь — к собственно теме моего выступления: советские журналисты и Радио Свобода. Многие из материалов, которые я хочу предложить вашему вниманию, были любезно предоставлены мне К. Гальским, работающим в парижском бюро, занимающимся исследованием и обработкой данных, касающихся числа слушателей, откликов на программы Радио Свобода, Свободная Европа и ряда других западных радиостанций.
В своем отчете на интересующую нас тему он пишет, что первым открытым обсуждением деятельности PC в советской печати следует, повидимому, считать статью в газете Московские новости за 18-е декабря 1988 года, в которой была дана высокая оценка передач, посвященных земле-
Rev. Étud. slaves, LXII/3, 1990, p. 627-631.
I
«Корреспонденты «»холодной войны»». Как работали советские и американские журналисты
Меня удивило, насколько репортаж американских корреспондентов перекликался с пропагандой американского правительства и насколько репортаж советских журналистов расширял границы понятий о США. Со временем это удивление переросло в более широкое понимание того, что исторические реалии не соответствуют стандартным образам «свободной» и «несвободной» прессы. У журналистов двух стран на самом деле было много общего, значительно больше, чем принято думать.
Со временем это удивление переросло в более широкое понимание того, что исторические реалии не соответствуют стандартным образам «свободной» и «несвободной» прессы. У журналистов двух стран на самом деле было много общего, значительно больше, чем принято думать.
— Ваш стиль — сочетание публицистики и академичности, увлекательное чтение. Согласны ли вы с тем, что современная документальная и исследовательская литература, к которой растет интерес в мире, должна уметь просто рассказать о сложном?
— Совершенно согласна. Мне было важно, чтобы в книге совмещались читабельность, аккуратная работа с историческими материалами и интересный аналитический подход. К сожалению, часто бывает, что добросовестное, но сухо написанное исследование толкает читателей в сторону более доступных, но менее достоверных источников информации.
Во многом мой стиль изложения был сформирован героями моей книги. Журналисты-международники были интересными людьми и очень хорошими писателями. Мне было важно написать о них так, чтобы было интересно и приятно читать не только коллегам-историкам, но и студентам, журналистам или людям, интересующимся этой темой.
Мне было важно написать о них так, чтобы было интересно и приятно читать не только коллегам-историкам, но и студентам, журналистам или людям, интересующимся этой темой.
— Наряду с анализом в книге большое место занимают человеческие истории, очерки нравов эпохи, которая сегодня молодым, да и не только, мало понятна. Что самое главное мы должны уяснить, думая и говоря об эпохе начала и расцвета «холодной войны»?
— Когда мы слышим слова «холодная война», мы сразу представляем себе геополитические противостояния, ядерные боеголовки, прокси-войны и «встречи в верхах». Символ «холодной войны» — не журналист, писатель или кинорежиссер, а дипломат, шпион или военный.
На самом деле для большинства людей, живших в ту эпоху, самым главным источником влияния была культура — книги, кино, радио, телевидение и, конечно же, пресса. Ментальность «холодной войны» формировалась в первую очередь в культурной сфере. Культура (в широком понимании) способствовала нагнетанию атмосферы страха, тревоги и обоюдной враждебности. Образ другой страны как врага и соперника, несовместимого с «нашими» ценностями, становился частью общего сознания через экраны телевизора или кино, страницы книг и газет. Обратный процесс — преодоление ментальности недоверия и страха, понятие того, что за «железным занавесом» живут такие же люди, с такими же заботами и надеждами, — тоже формировался и распространялся в культурной сфере. В обоих процессах пресса играла важнейшую роль.
Образ другой страны как врага и соперника, несовместимого с «нашими» ценностями, становился частью общего сознания через экраны телевизора или кино, страницы книг и газет. Обратный процесс — преодоление ментальности недоверия и страха, понятие того, что за «железным занавесом» живут такие же люди, с такими же заботами и надеждами, — тоже формировался и распространялся в культурной сфере. В обоих процессах пресса играла важнейшую роль.
Человек сильнее системы
— Человек, журналист в вашей книге, на мой взгляд, оказывается сильнее идеологии и системы. В обеих странах. Пары Беглов и Салисбури, Кондрашов и Смит — параллельные истории, но все же разные. В чем было основное сходство советских и американских журналистов? И основные различия?
— Начнем с очевидных вещей: советские и американские журналисты, как правило, учились в престижных университетах и были связаны с политическими и культурными элитами своих стран. Назначению в СССР и США обычно предшествовала работа в «горячих точках».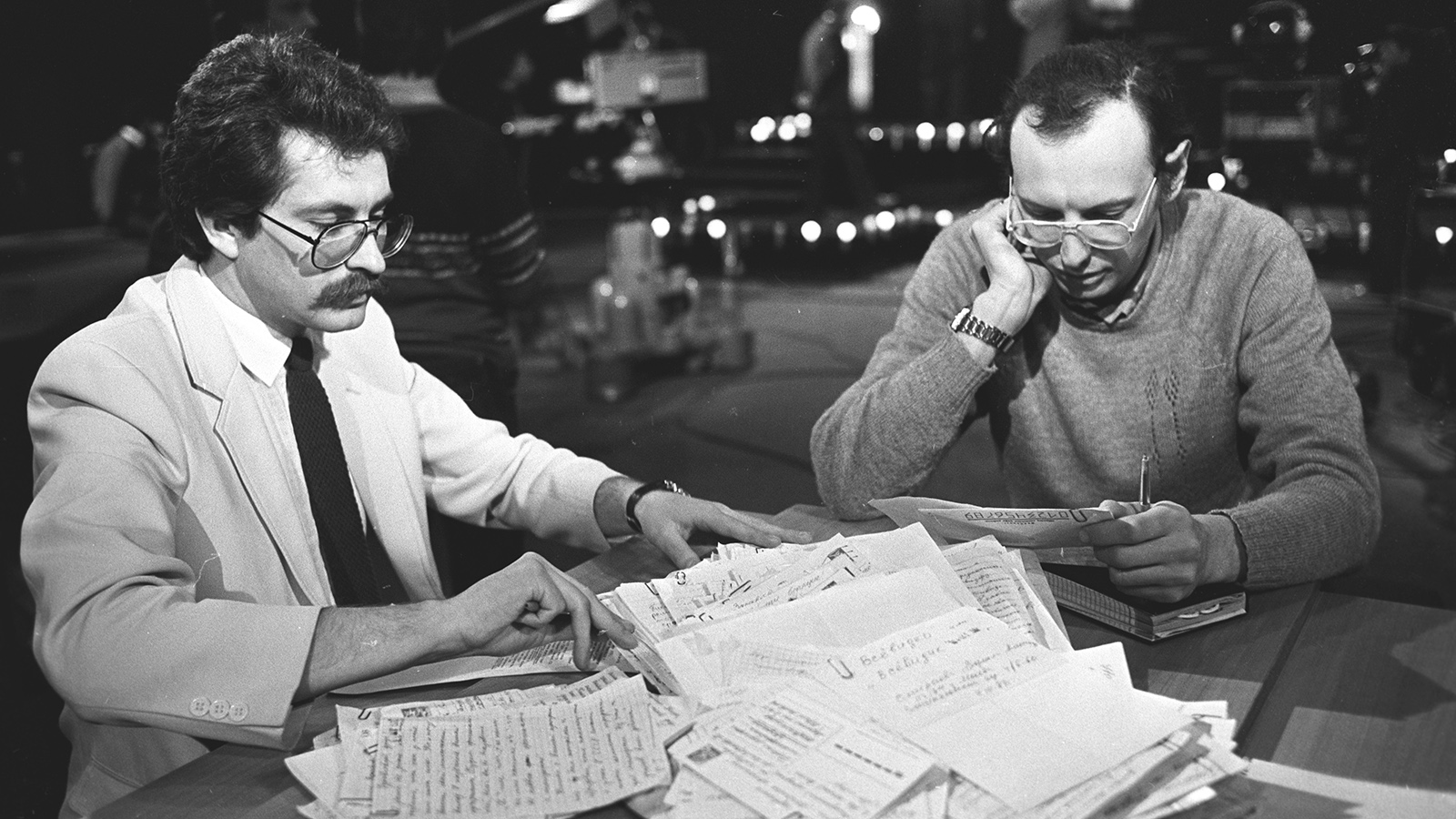 Например, перед тем как стать завбюро New York Times в Москве, Хедрик Смит работал в Каире и во Вьетнаме. Станислав Кондрашов впервые отправился за рубеж спецкором на освещение Суэцкого кризиса, а потом работал пять лет корреспондентом «Известий» в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Большинство корреспондентов были мужчины.
Например, перед тем как стать завбюро New York Times в Москве, Хедрик Смит работал в Каире и во Вьетнаме. Станислав Кондрашов впервые отправился за рубеж спецкором на освещение Суэцкого кризиса, а потом работал пять лет корреспондентом «Известий» в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Большинство корреспондентов были мужчины.
Записи из дневников известного советского спортивного журналиста публикуются впервые — Российская газета
29 сентября 2019-го — 100 лет со дня рождения Льва Филатова.
Конечно, журналисту дожить до такого возраста в наше время нереально. И все-таки жаль, что Лев Иванович не увидел чемпионата мира по футболу в нашей стране… Ведь он был не только ведущим футбольным журналистом, но и страстным (хотя и скрывал это) болельщиком. Спартаковским.
И еще больше жаль, что лишены мы нынче его умных, аргументированных оценок футбольного настоящего, высказанных прекрасным литературным языком. Так о футболе не писали ни тогда, не пишут и теперь. Сотни журналистов считают его своим учителем, даже те, кто его ни разу не видел. Его книги о футболе и сегодня читаются на одном дыхании.
Его книги о футболе и сегодня читаются на одном дыхании.
В 1994 году я редактировал спорт в только что открывшейся «Новой газете». Мы задумали выпускать специальную спортивную вкладку и стремились привлекать самых маститых авторов. Уж не помню, как мне удалось достать домашний телефон Льва Ивановича. Я знал, что он вышел на пенсию, и нам очень хотелось привлечь его к работе.
Я долго не решался позвонить. Мы обмозговывали тему специально для него, что-то вроде: история чрезвычайных происшествий с нашей сборной на чемпионатах мира (дело как раз было накануне чемпионата мира в США). Потом я ходил к главному редактору и решал вопрос о повышенном гонораре для именитого автора, если он, конечно, согласится нам писать. Потом думал, где же назначить встречу: как же — Филатов наверняка холеный, весь мир объездил. Самым минимальным мне казался ресторан Домжура…
Наконец я решился и позвонил. Лев Иванович не был очень уж любезен, но темой заинтересовался. Я, чувствуя, что клюнуло, заторопился подсечь — заговорил о повышенных гонорарах. И тут… Суховатый голос Филатова стал прямо-таки колючим:
И тут… Суховатый голос Филатова стал прямо-таки колючим:
— Молодой человек, о гонорарах в мое время говорили в последнюю очередь. Я склонен вам отказать, но мне интересен поворот темы, любопытно взглянуть на историю выступлений нашей сборной под таким углом. Я буду размышлять, позвоните дня через два…
Через два дня звоню. Слышу:
— Жду вас завтра на станции метро «Киевская», на той линии, что ведет к станции «Молодежная». У второй скамейки по направлению из центра. Я все написал…
Льва Ивановича я узнал сразу, но не мог поверить своим глазам. Вместо помпезного господина передо мной был скромный старичок в видавшем виды плащике и знаменитой по фотографиям кепочке. Минут пять-семь мы сидели на скамеечке. Он расспрашивал о нашем издании, о том, кто я и откуда. Потом неожиданно попрощался и разрешил звонить еще.
Так мы с ним и встречались на этой скамеечке примерно раза два в месяц. Он мне очередную статью и мнение о моей работе (я выписал газету на его домашний адрес), я ему — конвертик с гонораром. Встречи продолжались все те же пять-семь минут. Но за это время Лев Иванович много чего интересного успевал мне рассказать, поучить… Я все время проклинал шум проходящих мимо поездов: из-за него пара минут скрадывалась…
Встречи продолжались все те же пять-семь минут. Но за это время Лев Иванович много чего интересного успевал мне рассказать, поучить… Я все время проклинал шум проходящих мимо поездов: из-за него пара минут скрадывалась…
А потом я перешел в «Комсомольскую правду», и мне запретили передавать гонорары в конвертах. Когда сумма накопилась приличная, я уговорил Льва Ивановича приехать в редакцию. Он начинал свою журналистскую деятельность именно с «Комсомолки», поэтому приехал с удовольствием. Помню картину: идем мы с ним по длиннющему редакционному коридору (еще тому, допожарному, что на улице «Правды»), а навстречу нам тогдашний главный редактор Валерий Петрович Симонов.
Симонов был страстным болельщиком и знал, что придет Филатов. Наверное, специально попался нам в коридоре. Когда поравнялись, я их познакомил. Я поразился, как мгновенно главный редактор превратился в скромного болельщика, а пенсионер Филатов в строгого главного редактора. Симонов с благоговением рассказывал, что учился на заметках Филатова, а Филатов спрашивал, почему спорту места в газете отведено мало и журналистов отдела спорта хвалил…
3 февраля 1997 года Льва Ивановича не стало. Вдова Раиса Дмитриевна на поминках говорила, что, приходя в сознание перед смертью, он интересовался: какие там изменения в «Спартаке». Футбол был его жизнью до последних минут.
Вдова Раиса Дмитриевна на поминках говорила, что, приходя в сознание перед смертью, он интересовался: какие там изменения в «Спартаке». Футбол был его жизнью до последних минут.
А журналисты «Комсомолки» в тот месяц решили, что ежегодно на традиционных вечерах вручения черного смокинга футбольному джентльмену года будут вручать премию имени Л.И.Филатова — лучшему журналисту, работающему в футбольной среде.
На одном из таких вечеров Раиса Дмитриевна со словами «выкинуть жалко» передала мне рукописные заметки Льва Ивановича, что-то типа отрывков из дневника. Недавно, перебирая старые бумаги, случайно их обнаружил. Зачитался: редакционный быт, легендарные имена… Думаю, болельщикам будет интересно познакомиться.
1968 г.19.I.68
Бесков (в то время главный тренер московского «Динамо» — прим. «Родины») заявил «Юности», что я должен посмотреть статью о нем. «Зачем мне это нужно, что это прибавит? Только еще больше нападок. Все принялись писать о моих собаках, понимают мои слова буквально. Дайте мне телефон редактора, я откажусь от интервью» Жена отговорила.
Дайте мне телефон редактора, я откажусь от интервью» Жена отговорила.
20.I.68
Звонил В.А.Маслов (тогда — главный тренер киевского «Динамо» — прим. «Родины»): «Читали статью Галинского? Вот нам будут вручать золотые медали, я заявлю публично, что его надо сделать тренером. Хочу оправдать звание члена редколлегии, что я должен делать?»
16.I.68
В редакции встреча с Качалиным (главный тренер сборной СССР — прим. «Родины»). «Я верю в свое, хороший футбол должен быть атакующим, а мы отказались от своего стиля, который существовал еще 10 лет назад. Но я молчу, не хочу быть белой вороной. Разве это игра — СССР-Англия? Англичане ее вели, они не боятся, у них нет «чистильщика». Но писать пока не буду, увольте…»
28.I.68
День в Минске. Открытие клуба любителей футбола. 4 тысячи людей 3 ч 40 м […] Затея новой газеты «Вечерний Минск», которая борется за тиражи, за признание […] Народный артист БССР Николай Николаевич Еременко. У меня в номере. Чтение стихов Есенина и Маяковского.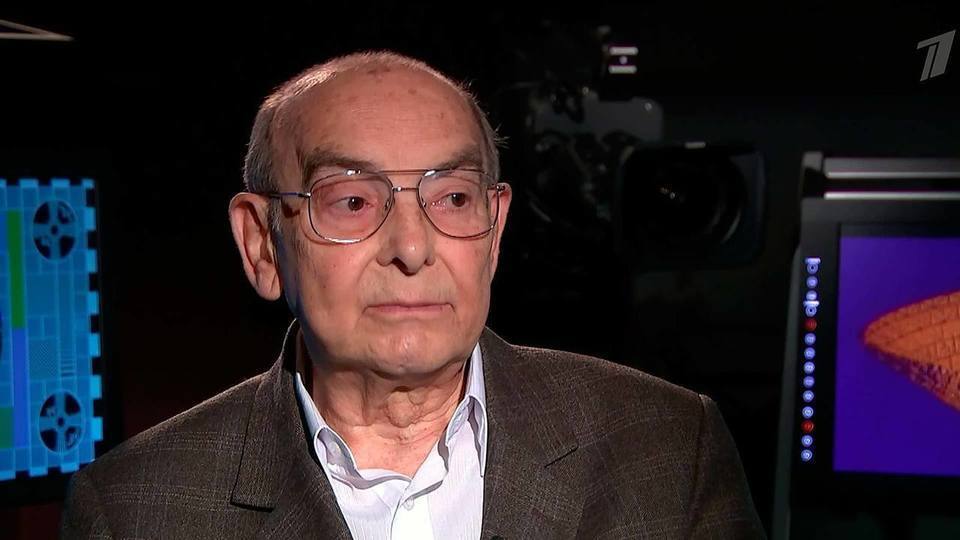 Куча вопросов на вечере (начало в 12), записки приносили дети из детского сада. Как они с удовольствием бегали, подносили цветы футболистам минского «Динамо». Наслушался преувеличенных комплиментов. Севидов (главный тренер минского «Динамо» — прим. «Родины») подробно ответил о каждом игроке, о каждом слухе — и это было хорошо и нужно людям. Вратарь Прохоров ушел из команды, вместе с женой Адамова, которая, как говорят, тяготилась тем, что муж ниже ее ростом.
Куча вопросов на вечере (начало в 12), записки приносили дети из детского сада. Как они с удовольствием бегали, подносили цветы футболистам минского «Динамо». Наслушался преувеличенных комплиментов. Севидов (главный тренер минского «Динамо» — прим. «Родины») подробно ответил о каждом игроке, о каждом слухе — и это было хорошо и нужно людям. Вратарь Прохоров ушел из команды, вместе с женой Адамова, которая, как говорят, тяготилась тем, что муж ниже ее ростом.
3.III
В еженедельнике появилась информация — «Купите Гарринчу (бразильский футболист — прим. «Родины»)». Пришли детские письма: «Путь приезжает к нам, мы у него поучимся».
8.III
Б.А.Аркадьев (известный игрок и тренер московского «Динамо» — прим. «Родины»). «Маслов мне напоминает Кутузова в трактовке Толстого. Очень хороший тренер. Насытил центр поля, сократил коммуникации. Его защите достается потрепанный противник. Красницкий необыкновенно одарен, но лентяй. Раньше времени ушел в тренеры. Но ему игроки скоро надоедят.
Сейчас главное — энергетические ресурсы в игре, умение сыграть так, чтобы в каждом эпизоде добиваться численного преимущества. В технике все подравнялись, в общей физической подготовке то же. Да, да, давно я говорил об универсальных игроках, меня опровергали, но сейчас оправдалось». Он очень сдержанно и скромно говорит о своих прозрениях. «Якушин? Он такой же тренер, как сам играл. Обмануть, перехитрить, все учесть. Очень хороший тренер».
8.III.
Хоккей Д(м) — Сп. — Спартак вел 2:0. Судьи удалили спартаковца — 2:1. И тут Б.Майоров начал конфликтовать с судьями. Игра сломалась, разбилась на эпизоды, толчки, сведение счетов. Сп. Проиграл 3:4. Они играли обиженные и на судей и на то, что не могли попасть в ворота.
15.III.
Б.А.Аркадьев. «Как вы относитесь к тому, что вас называли оборонцем?» Величайшее недоразумение. Я не понимаю, что это такое атакующий футбол… А защита разве не нужна. А без защиты разве может быть атака? Это наивное противопоставление. Футбол должен быть гармоничным. Что лучше 7:7 или 3:0. Конечно, 3:0.
Что лучше 7:7 или 3:0. Конечно, 3:0.
Б.А.Арк. — Посадили его в кабинет в редакции, и он там писал: «Я тугопис». «Я, кажется, срубил уже дом, но нет конька на крыше». И сидел полдня и просился уйти.
16.III.
Статья Гербергера (немецкий тренер — прим. «Родины»), где тот говорил о том, что всю подготовку игроков надо вести с мячом. Бесков мне позвонил: «Зачем вы это поместили, это вредный взгляд!» Аркадьев: «Почему вредный? Много прекрасных игроков было подготовлено именно по этой системе».
Я, как редактор, понял, что мой журнал — это поле игры.
19.III.
Юбилей Леонтьева. Уважение к нему за трудную судьбу, вратарскую и журналистскую. Вечер у него дома. Акимов тост: «Однажды пришел к нам в футбольную школу журналист Филатов. Откуда он взялся, никто из нас не знал. Но вопросы задавал интересные, видно было, что хотел узнать, докопаться». Акимов — это «Спартак», хотя и ушел из команды, кому-то показалось, что хватит Леонтьева. А они и сейчас дружат.
Ночью я понял, как надо начать книгу «Откуда взялся?». Первая глава — о болельщицком взгляде на футбол, о радостях, огорчениях, о впечатлениях, о том, как смотрел, видел футбол и игроков. Дневник. И кончить ее тем, как мне поручили в «К.П» написать 40 строк без подписи отчет о матче.
Первая глава — о болельщицком взгляде на футбол, о радостях, огорчениях, о впечатлениях, о том, как смотрел, видел футбол и игроков. Дневник. И кончить ее тем, как мне поручили в «К.П» написать 40 строк без подписи отчет о матче.
31.III.
С 25 по 29 был в Тбилиси, финал «Подснежника».
Жил с М.Мержановым (известный журналист — прим. «Родины») […] Тбилисские болельщики. Стадион «Локомотив».
Проездка по ночному Тбилиси. Гора Мтацминда. Духан, как юноши нас обслуживали. Там ценят каждое хорошее слово о грузинских футболистах. Я вручаю «Подснежник». Две шеренги.
Месхисты и антимесхисты. Первые всегда хвалят Месхи (известный грузинский футболист — прим. «Родины»), вторые только тогда, когда он хорошо играет.
24.V.
Н.П.Старостин читает полосу со своим материалом (СССР-Чехословакия) и очень недоволен, что я выбросил абзац, где говорилось о том, что «самое красивое — счет». Н.Г.Латышев слушает наш спор и удивленно качает головой, он за меня.
В той победе видно завтрашнее поражение, так же как в поражении завтрашняя победа. (Потом это оправдалось в ответном матче в Остраве -0:3).
(Потом это оправдалось в ответном матче в Остраве -0:3).
Подумать о разнице в игре 20 и 30 лучших футболистов.
1.VI
Как возрождается молодая команда «Торпедо», избавившись от Щербакова, Воронина, Андреюка. Щербаков ужасно старался забить гол торпедовцам и не удалось. Он был жалок.
Заколдованная олимпийская игра. Острава — 0:3.
Наум Владимирович Воловец, болельщик «Торпедо», носит в кармане шоколадные конфеты для тех, кто забьет голы. Все это знают, это примета.
Стрельцов среди молодых, как стена, играют об него, он как Круминьш. Как кто-нибудь не знает что делать дальше, отдает мяч Стр.
Жаль Воронина, он ехал на этом автомобиле уже 2 года (речь об автокатастрофе, в которую попал футболист и в итоге сломал свою карьеру — прим. «Родины»).
3.VI.
Рекорды по л/а устанавливают на легких соревнованиях, а не на олимп. играх. А каково футболу? Игра в самых главных матчах не потому ли не лучшая?
4.VI.
В Италию не поехал ни один корр. «Сов.спорта»
«Сов.спорта»
5.VI.
Прекрасные часы у телевизора во время матчей Италия — СССР, Англия — Югославия. Непрерывное переживание. Жребий. Дурацкие условия. Долго не знали, чем закончилась жеребьевка.
16-18.VI.
Ленинград. Австрия — СССР. Якушин (известный тренер сборной СССР — прим. «Родины») дурачится. Рассказывает о жребии (речь о чемпионате Европы по футболу 1968 года; после того, как полуфинальный матч Италия — СССР закончился вничью 0:0, исход матча определялся судьей, который бросал монету — прим. «Родины»). «Увидел монету французскую, и понял, как она ляжет. Говорю Шестерн. — возьми француз. А потом надо было ему выбрать орел. Но тут дали Факкетти, и он выбрал орел. Не удалось».
Расходятся в игроках Якушин и Качалин. (4 нападающих и без Асатиани). Сидели, смотрели вместе с Фальяном, Артемом Григорьевичем (советский футболист, тренер — прим. «Родины»).
18 — поездка на базу «Зенита» в Удельное. Не огорожена, там пляж, Ф: «я игрокам командую, а они в сторону смотрят». У тренера своя арифметика. Ф недоволен моск. Д «они сорят очками, отдают нашим конкурентам, а потом все равно нас обгонят».
У тренера своя арифметика. Ф недоволен моск. Д «они сорят очками, отдают нашим конкурентам, а потом все равно нас обгонят».
23.VI.
Один тайм Чехословакия — Бразилия. Вот и ответ на все наши дискуссии — игра бразильцев. Быть им чемпионами в 1970 г.! Есть у них ясность, что футбол — это атака.
19.VII.
Анзюлис (футбольный судья — прим. «Родины») у нас в гостях. «Почему вы любите судить, несмотря на неприятности?» «Каждый раз выходишь доказывать, что ты сумеешь». Ему нравились Белов и Саар. Хвалит ЦСКА и Торп (Кут) — там дисциплина, никто не возражает. «Почему мало наказываете?» «Жалею, они все очень разгоряченные, знаю, что потом одумаются». «В Москве любят судить те судьи, которые умеют, а другие норовят в далеких городах, подальше от глаз знатоков».
2.VIII.
Звонил Бесков. Сетовал, что в «С.с» был аншлаг «Б. о своей команде» и его за это прорабатывали. Говорил о дублерах «наши играли все что могут, а киевские видно, что прибавят».
3.VIII.
Звонил Н. Старостин. Ходатайствовал, чтобы не критиковали переход Меринова (хоккеист Владимир Меринов — прим. «Родины»). Рассказывал, как трудно найти центрального защитника. «Присылаем, приезжают, говорит разные вещи. У нас с Симоняном (в то время — главный тренер «Спартака» — прим. «Родины») противоположные вкусы. Он смотрит, как игрок отдает мяч, а я, как отбирает. Верю Сальникову (в то время помощник Симоняна в «Спартаке» — прим. «Родины»). Когда мы приезжаем куда-нибудь, там нужного игрока не ставят».
Старостин. Ходатайствовал, чтобы не критиковали переход Меринова (хоккеист Владимир Меринов — прим. «Родины»). Рассказывал, как трудно найти центрального защитника. «Присылаем, приезжают, говорит разные вещи. У нас с Симоняном (в то время — главный тренер «Спартака» — прим. «Родины») противоположные вкусы. Он смотрит, как игрок отдает мяч, а я, как отбирает. Верю Сальникову (в то время помощник Симоняна в «Спартаке» — прим. «Родины»). Когда мы приезжаем куда-нибудь, там нужного игрока не ставят».
«Да, мы проиграли Д-о. Но столько лет мы сражаемся, что уже и обиды нет. В прошлый раз они были лучше, а выиграли мы, теперь — наоборот, значит расквитались. У наших клубов даже что-то общее есть в судьбе. Мы теперь на динамовцев надеемся, что они хорошо сыграют против наших конкурентов». Якушин мне говорит: «Когда я был тренером Д(м), меня за второе место долбали, а сейчас на 14-м и ничего, молчат».
Маслов рассказывал, как в бытность тренером отбирал ребят в детскую школу. Много работали, смотрели, просмотрели тысячи. Отобрали. А потом началось самое трудное. Ребята говорили: «Можно приведу Кольку». И приводили. Оказалось, что новые были лучше всех, кого отобрали. Трудное это дело.
Отобрали. А потом началось самое трудное. Ребята говорили: «Можно приведу Кольку». И приводили. Оказалось, что новые были лучше всех, кого отобрали. Трудное это дело.
Маслов: «Яшину давно надо было уйти. Из-за него погибло, не расцвело много талантливых вратарей. Маслаченко, Котрикадзе, Беляев. И сейчас так же». Вот он жесткий подход. У Маслова он есть. Торопятся сокращать век. Но великие имеют право играть долго.
7.VIII
Тема для книги: Что такое журналистская острота. Как нельзя быть близким с теми, о ком пишешь. Книга должна быть одновременно о футболе и о журналистике.
27.VIII.
Донецк. Гуляли утром перед матчем с Масловым. Спустя 2 часа вдруг необычайно тихий (для него) вопрос: «А что если мы в третий раз будем чемпионами?» Я поднимаю его на смех — «Это не серьезный вопрос, давно ясно, что вы будете чемпионами». Спасаемся от болельщиков. Маслов возражает, что у него 4,5 защитника, но постепенно затихает […]
Говорю Хмельницкому (футболист киевского «Динамо» — прим. «Родины»), зачем он спорил с судьей. «Зря, зря знаю, не буду, ничего же не вернешь».
«Родины»), зачем он спорил с судьей. «Зря, зря знаю, не буду, ничего же не вернешь».
[…]
9.X
У больших игроков, много давших своему клубу, под конец почти обязательно трагедия. Они начинают мешать, того не желая.
Тарасов (известный хоккейный тренер — прим. «Родины») — тройке. «Вы должны сейчас забить. В противном случае я вам предложу задание еще труднее».
11.X
Зашел театральный критик Калаш. Спросил: «А вы в спорте проявляете заботу о том, чтобы запечатлеть лучших?» Я ответил: «Мы связаны тем, что завтра его удалят с поля или он забьет гол в свои ворота». У спортсменов репутация колеблется, а потом он сойдет, он уже мало кому интересен и нужен.
31.X
Разговор с Бесковым по телефону. «У меня двое деревянных — Зыков и Еврюжихин (футболисты московского «Динамо» — прим. «Родины»), от них мяч отскакивает, не угадаешь куда. Работаем над личностью. Семину (известный футболист, тренер, сейчас возглавляет московский «Локомотив» — прим. «Родины») я сказал, что он не умеет играть. Он долго переживал, ершился, осенью начал выполнять задания и схватил игру. Нужен еще сезон. А у Эштрекова (футболист московского «Динамо» — прим. «Родины») есть все задатки классного игрока. Надо дать ему их проявить. Вратарь Балясников очень старается, надо закрепить его старание. И так с каждым».
Он долго переживал, ершился, осенью начал выполнять задания и схватил игру. Нужен еще сезон. А у Эштрекова (футболист московского «Динамо» — прим. «Родины») есть все задатки классного игрока. Надо дать ему их проявить. Вратарь Балясников очень старается, надо закрепить его старание. И так с каждым».
Хороший тренер должен любить себя, команду, дело, в игроках должен быть оптимистом, тогда ему будут верить.
16.XII
Сон редактора. Будто бы пересчитали очки и чемпион не Д(к), а Торпедо. Что теперь делать….
1971 г.29.I
Юбилей Бескова. 50. В клубе МВД на Дзержинской. Работа Леры (жена Константина Бескова — прим. «Родины»). Лучшее — речь Н.Симоняна. «Костя». Зачем говорить о Ташкенте, я тоже вздрагиваю, когда произносят «Базель». Команда не поздравила, как следует, официально один Аничкин. Шульженко.
А.Старостин — «Худо будет, приходи в «Спартак», дверь открыта». Симонян — если мы впереди, оглядываемся, где «Динамо». И позади — где «Д». Друг без друга нам не жизнь, не интересно.
После заседания президиума позвонил Бесков. «Звоню друзьям, когда трудно: Сабо не утверждают» (речь о переходе в московское «Динамо» Йожефа Сабо, сделавшего себе имя в киевском — прим. «Родины»).
На президиуме я за Сабо, за хорошего игрока, который способен еще поиграть хотя бы немного. Голосование 8:6. Ивонин принял решение президиума. Яшин: «Я Сабо не очень любил, когда мы еще были в сборной. Но причем это тут? Он же специалист, мы решаем судьбу специалиста».
о чем писали и как воевали
Советские журналисты на Великой Отечественной войне: о чем писали и как воевалиВторник, 14 января 2020
19:00
Павильон «Рабочий и колхозница»
С 14 января факультет журналистики МГУ начинает новый сезон открытых лекций в рамках зимней образовательной программы на ВДНХ. В год празднования 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов курс посвящен журналистике и СМИ военного периода.
В год празднования 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов курс посвящен журналистике и СМИ военного периода.
Первую лекцию — «Советские журналисты на Великой Отечественной войне: о чем писали и как воевали» — проведет доктор филологических наук, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ О. Д. Минаева. Современники событий Великой Отечественной войны знали о ней гораздо меньше, чем мы можем узнать сейчас. О причинах этого, о том, какие темы были в печати этого периода, какие проблемы освещения войны видели журналисты, мы поговорим на открытой лекции. Рассмотрим, как советские журналисты становились военными корреспондентами, как складывалась их фронтовая биография и какой след война оставила в их жизни.
Ольга Минаева
Доктор филологических наук, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ.
Вторник, 14 января 2020
19:00
Павильон «Рабочий и колхозница»
Количество мест ограничено
50% вместимости зала. Необходимо пройти электронную регистрацию. Пожалуйста, регистрируйтесь, если точно собираетесь прийти на лекцию, и объективно оценивайте свое состояние здоровья, собираясь на массовые мероприятия. В помещении посетители должны находиться в масках. При входе измеряется температура и может быть отказано в посещении мероприятия при повышенных показателях или отсутствии маски. Мы заботимся о безопасности наших гостей.Российских репортеров, которые помогли свергнуть СССР
Двадцать лет назад, вечером 19 августа 1991 года, на экранах телевизоров Советского Союза разыгрались одни из самых наглых и важных актов современной журналистики.
Ранее в тот день в советском эфире передавали худший вид журналистики времен холодной войны: покорные ведущие зачитывали прокламации и указы Государственного комитета по чрезвычайному положению — банды жестких коммунистов, стремящихся свергнуть настроенного на реформы Михаила Горбачева.
Второе их публичное заявление называлось «Обращение к советскому народу». Его первые строки дают вам ощущение напыщенности и гибели всех посланий комитета:
соотечественников,граждан Советского Союза,
Обращаемся к вам в тяжелый, критический час для нашего Отечества и наших народов. Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность.
«Смертельная опасность» была, конечно, попыткой Михаила Горбачева вывести свою страну из семи десятилетий политических репрессий и экономического ступора.Час за часом заявления комитета, осуждающие направление Горбачева, заполонили эфир. Учитывая советскую историю и прецеденты, такие как Венгрия в 1956 году и Чехословакия в 1968 году, нетрудно было представить, что с военной мощью на их стороне могут победить сторонники жесткой линии.
Первый публичный намек на то, что может быть другой исход, прозвучал ранним вечером, когда руководители переворота провели пресс-конференцию в Министерстве иностранных дел. Журналисты государственного Гостелерадио, московская штаб-квартира которых была окружена танками и патрулировалась солдатами, послушно транслировали мероприятие в прямом эфире.Молодой российский репортер Татьяна Малкина позже отметила, что вопросы, заданные путчистам, были в основном «вялыми». То есть до тех пор, пока не узнала саму Малкину. Она с холодной наглостью спросила: «Не могли бы вы сказать, понимаете ли вы, что вчера вечером совершили государственный переворот?» Ссылка на полную пресс-конференцию здесь; Вопрос Малкиной примерно через тридцать минут.
Zing! Конечно, это риторический вопрос, но из-за прямой трансляции он вызвал резонанс в масштабах всей страны, как вызов целого поколения (Малкиной в тот день только что исполнилось двадцать четыре года, и она позже сказала, что спрашивает только, что молодые журналисты ее газеты спросили бы, если бы их узнали).
Несколькими часами позже « Время », вечернее общенациональное информационное шоу, началось с повторения прокламаций и указов о государственном перевороте (ведущие, должно быть, уже выучили их наизусть). Затем, без предупреждения и несмотря на большое количество военных в киностудиях, редакция «Времени» перешла к потрясающему репортажу о протестах против переворота в Москве, в котором было изображено культовое изображение Бориса Ельцина на танке и виды баррикад, воздвигнутых в результате переворота. сопротивления, и драматическое обещание другого молодого репортера, Сергея Медведева, что он и его коллеги сообщат обновленную информацию о сопротивлении позже: «Если у нас будет такая возможность.”
Это было начало конца — первый четкий сигнал о том, что сторонники жесткой линии вполне могут потерпеть неудачу (они сделали это двумя днями позже) и что долгожданный крах советского коммунизма теперь может быть близок (ожидание этого было больше, примерно четыре месяца).
Когда кто-то недавно напомнил мне, что в августе этого года будет отмечаться двадцатая годовщина переворота, я очень хотел использовать это как празднование той жизненно важной роли, которую журналистика может сыграть в такой драматической борьбе за свободу и демократию.Как профессор Колумбийской школы журналистики, я каждый год рассказываю студентам на весеннем курсе международных СМИ о мужестве Малкиной, Медведева и журналистов в Internews , Эхо Москвы и других новостных агентствах, которые бросили вызов перевороту. В то время я был руководителем московского бюро NPR, и действия журналистов были среди тех вызывающих поступков, о которых я писал. Вместе с сопротивлением Ельцина, других политических и военных деятелей и тысяч простых граждан они столкнулись с противниками жесткой линии, чьи усилия потерпели крах 21 августа.
Последствия были ошеломляющими. Спустя два десятилетия меня все еще мучает дрожь от воспоминаний о том, как десятки тысяч москвичей после переворота приветствовали Ельцина и гордо повторяли название своей страны — не Советский Союз, хотя формально он все еще существовал, а «RO-SEE-A , RO-SEE-A ». Я редко видел, чтобы события разворачивались в столь жестких черно-белых тонах; Редко когда белые шляпы одерживали такую радостную победу.
Я редко видел, чтобы события разворачивались в столь жестких черно-белых тонах; Редко когда белые шляпы одерживали такую радостную победу.
Этой весной, когда я разговаривал со своими студентами о роли социальных сетей в арабских восстаниях, я отметил, что двадцатью годами ранее сторонники Бориса Ельцина использовали новейшую на тот момент технологию — факс — для создания сопротивления, так же как Facebook и Twitter. были использованы в этом году.
Аналогии между тем и сейчас, уроки, извлеченные из 1991 года, предсказанные результаты для новых революций 2011 года — все это казалось достойными темами для события, связанного с этим излюбленным журналистским приемом пересмотра великих исторических моментов ключевых годовщин.
Но недостатки проявились, как только я начал обращаться к друзьям и коллегам о том, как организовать такое событие. Какой переворот вы имеете в виду, спросил один из них: путч 1991 года, когда Борис Ельцин был героем, или путч 1993 года, когда он приказал обстрелять из артиллерийских орудий российские правительственные учреждения, находящиеся в ведении парламента, который он распустил? Хм. Трудно выделить героизм, не исследуя также глубоко ущербного лидера, которым стал Ельцин после распада Советского Союза.
Трудно выделить героизм, не исследуя также глубоко ущербного лидера, которым стал Ельцин после распада Советского Союза.
Другие сказали: Интересная идея. Но убедитесь, что вы привлекаете к себе внимание громкое имя. Фамилии Малкина и Медведев явно не то, что они имели в виду. Действительно, предложенное ими громкое имя было Михаилом Горбачевым. Но он не был героем 1991 года, и, несмотря на то, что Запад по-прежнему хвалит его, мнения о Горбачеве дома варьируются от безразличия до враждебности.
Потом был проблемный выпуск самой прессы. Хотя в то время это не выглядело так, неудавшийся переворот 1991 года также стал началом конца журналистской весны, подпитываемой горбачевской гласностью и подпитываемой десятками журналистов — в основном молодыми, но некоторыми ветеранами советской системы — чьи репортажи часто были следственными, красноречивыми и новаторскими. Программы эпохи гласности, такие как Взгляд и До и после полуночи , были неизменно лучше, чем почти любые новостные телепрограммы в современной Америке.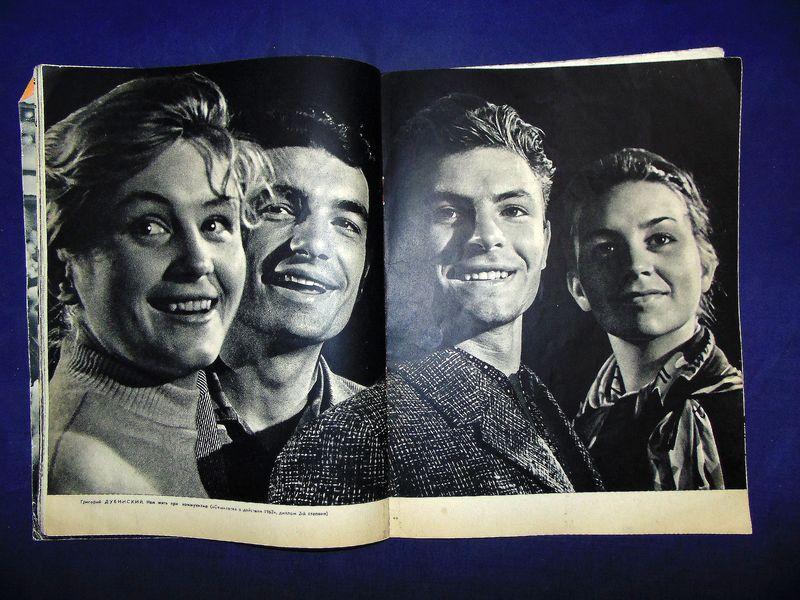 А печатные СМИ почти ежедневно обеспечивали журналистские перевороты, раскрывая темные секреты советского прошлого и разоблачающие должностные преступления в политике и политике дня.
А печатные СМИ почти ежедневно обеспечивали журналистские перевороты, раскрывая темные секреты советского прошлого и разоблачающие должностные преступления в политике и политике дня.
Крах коммунизма в конце 1991 года означал, что Коммунистическая партия больше не щедро субсидировала средства массовой информации, которые партийные боссы так эффективно использовали со времен Ленина для контроля над информацией и общественными мнениями. Но последовала коррупция в виде журналистов, пишущих за деньги подхалимственные статьи. Некоторые крупные медиа-бароны использовали прессу для продвижения своих собственных взглядов, преподнося урок, что капиталистические владельцы не боятся манипуляций со СМИ.
К тому времени, когда Владимир Путин пришел к власти, почти через десять лет после попытки государственного переворота 1991 года, средства массовой информации настолько дискредитировали себя, что общественность не вызвала особого протеста, когда Путин отказался от большей части их с трудом завоеванных свобод. Те, кто сегодня продолжает заниматься жесткой журналистикой, подвергаются риску нападения или даже убийства; Комитет защиты журналистов ставит Россию на девятое место в своем списке безнаказанности, в списке стран, где убийцы журналистов редко подвергаются наказанию.
Те, кто сегодня продолжает заниматься жесткой журналистикой, подвергаются риску нападения или даже убийства; Комитет защиты журналистов ставит Россию на девятое место в своем списке безнаказанности, в списке стран, где убийцы журналистов редко подвергаются наказанию.
«Столько всего произошло после этого», — вздохнул друг из России, который занялся журналистикой сразу после неудавшейся попытки государственного переворота 1991 года.«Был один яркий момент для журналистики. То, что произошло позже, было очень долгой историей », — сказал он. «И финал — это еще не счастливый конец».
Хорошо, но действительно ли это означало, что двадцать лет спустя этот краткий яркий момент не заслужил особого празднования? Если мы подумаем о том, что произошло тогда и что произошло с тех пор, не было бы каких-то важных уроков из России 1991 года, которые стоило бы изучить в свете арабских восстаний?
Конечно, сказал мой друг российский журналист.«Во-первых, вы находитесь на высоте этого чувства освобождения. А потом наступает суровая реальность. Тогда некоторые люди начинают думать, что, может быть, раньше все было лучше ».
А потом наступает суровая реальность. Тогда некоторые люди начинают думать, что, может быть, раньше все было лучше ».
Разве я не читал о каждом из этих событий в послереволюционном Тунисе и Египте? Неужели арабский мир, по крайней мере те страны, которым удается свергнуть своих автократических лидеров, просто обречен на повторение той или иной версии разочаровывающей постсоветской истории? Разве «долго и счастливо» просто не вариант после революции, будь то оранжевая революция или революция роз в Украине и Грузии или захватывающая дух победа народа в Египте?
Это вопросы о более крупных результатах, чем просто будущее арабских СМИ, и я уверен, что в ближайшие недели и месяцы их рассмотрят десятки панелей, лекций и статей.Я надеюсь, что некоторые также обратят внимание на роль СМИ; В знак надежды журнал Columbia Journalism Review недавно охарактеризовал постреволюционные арабские СМИ как «осторожно проверяющие границы, приспосабливающиеся к новым реалиям и осмеливающиеся мечтать о возможностях». Хорошо, что они вышли за рамки своей роли в свержении автократов и задумались о гораздо более важной роли, которую они могут сыграть сейчас, помогая постреволюционному государству строить сильные, прозрачные, подотчетные и демократические институты.
Хорошо, что они вышли за рамки своей роли в свержении автократов и задумались о гораздо более важной роли, которую они могут сыграть сейчас, помогая постреволюционному государству строить сильные, прозрачные, подотчетные и демократические институты.
В России после 1991 г. таких институтов практически нет. Поэтому вместо того, чтобы организовывать мероприятие, посвященное «урокам, извлеченным из горбачевского переворота», я, вероятно, приму предложение моего русского друга и просто подниму тост в августе этого года за тот блестящий момент 1991 года, когда Малкина, Медведев и многие другие Российские журналисты рискнули всем, чтобы изменить ситуацию своим мужественным вызовом.
Была ли Америка когда-либо нуждалась в наблюдателе за СМИ больше, чем сейчас? Помогите нам, присоединившись к CJR сегодня. Энн Купер преподает в Высшей школе журналистики Колумбийского университета. Она работала репортером в газетах, журналах и на Национальном общественном радио, а также была исполнительным директором Комитета по защите журналистов. Теги: Коммунизм, Михаил Горбачев, Россия, Татьяна Малкина, СССР
Энн Купер преподает в Высшей школе журналистики Колумбийского университета. Она работала репортером в газетах, журналах и на Национальном общественном радио, а также была исполнительным директором Комитета по защите журналистов. Теги: Коммунизм, Михаил Горбачев, Россия, Татьяна Малкина, СССР военных журналистов и военных корреспондентов из СССР в Россию: субъективность под огнем
- 1 А также сугубо военной концепцией письма и дискурса: C.Огер, «De l’esprit de c (.
 ..)
..) - 2 Х. Тамбер, Дж. Палмер, СМИ в состоянии войны. Иракский кризис, Лондон, Sage, 2004. .
- 3 A.-J. Бизимана, «Отношения между военными и журналистами: эволюция американского контекста», Les cahie (…)
- 4 Э. Сека-Козловски, «От контроля военной информации к контролю над обществом: политическое в (…)
1 В России, как и везде, военные журналисты и военные корреспонденты оказываются в центре противоречий между дисциплиной и конфиденциальностью, требуемыми в военных вопросах, и независимостью и открытостью, требуемыми СМИ.Их задача — информировать общество и формировать общественное мнение, но они также связаны правилами вооруженных сил1 в ситуациях, когда на карту поставлена их собственная безопасность, а информационная война часто ведется параллельно с войной на местах2. Эта напряженность характерна не только для России3, но там она, пожалуй, больше, чем в любой другой стране. В СССР во время войны (будь то «Великая Отечественная война» с 1941 года или холодная война до 1985 года) ограничения на военных журналистов и военных корреспондентов были жесткими и находились в ведении Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота с его двойной ответственностью. за государственную цензуру и партийную идеологическую корректность.В то время, когда СМИ называли «средством массовой информации и пропаганды», какая возможная свобода действий была у корреспондентов между их «обязанностью сдержанности» и их «обязанностью высказываться»? В условиях гласности Горбачева и , начиная с 1985 года, освещение военных вопросов стало форумом для выражения политической критики, будь то пропаганда неудач войны в Афганистане, запугивание новобранцев, коррупция среди офицеров или скандалы, связанные с ядерным сдерживанием. В начале 1990-х журналисты отказались от военной дисциплины в своей работе и посвятили себя освещению всех недостатков вооруженных сил.
В СССР во время войны (будь то «Великая Отечественная война» с 1941 года или холодная война до 1985 года) ограничения на военных журналистов и военных корреспондентов были жесткими и находились в ведении Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота с его двойной ответственностью. за государственную цензуру и партийную идеологическую корректность.В то время, когда СМИ называли «средством массовой информации и пропаганды», какая возможная свобода действий была у корреспондентов между их «обязанностью сдержанности» и их «обязанностью высказываться»? В условиях гласности Горбачева и , начиная с 1985 года, освещение военных вопросов стало форумом для выражения политической критики, будь то пропаганда неудач войны в Афганистане, запугивание новобранцев, коррупция среди офицеров или скандалы, связанные с ядерным сдерживанием. В начале 1990-х журналисты отказались от военной дисциплины в своей работе и посвятили себя освещению всех недостатков вооруженных сил. С начала нового века авторитарный поворот российского правительства, похоже, восстановил приоритет порядка, «вертикаль власти» и «диктатуру закона» как в вооруженных силах, так и в средствах массовой информации, обеспечивая политический контроль. над сообщениями СМИ о солдатах и войне 4.
С начала нового века авторитарный поворот российского правительства, похоже, восстановил приоритет порядка, «вертикаль власти» и «диктатуру закона» как в вооруженных силах, так и в средствах массовой информации, обеспечивая политический контроль. над сообщениями СМИ о солдатах и войне 4.
- 5 К. Лемье (реж.), La subjectivité journalistique. Onze leçons sur le rôle de l’individualité dans l (…)
2 Что на самом деле? Какие напряжения существуют в конкретной задаче военных журналистов? На какие компромиссы они идут? Чтобы ответить на эти вопросы, в этом специальном отчете рассматривается профессиональная практика журналистов, чтобы выявить компромиссы, хитрости и конфликты, которые составляют их повседневную работу. В различных статьях описываются люди в действии, работают профессионалы, работают журналисты. Этот социологический подход, при котором собственное мнение людей передается прямо или косвенно, показывает как степень ограничений в их работе, так и степень независимости и субъективности5, которые существуют в журналистской продукции. В нем описывается их участие в создании официального дискурса и их борьба за разъяснение альтернативных истин. После распада СССР мир военных журналистов стал все более разнообразным и множественным. Карьера и опыт расширились за счет включения гражданских лиц, женщин, иностранцев и неспециалистов. Они в разной степени привержены своей работе, которая была открыта политически, юридически и технически сложным образом. Несмотря на то, что ограничения действительно существуют, это не столько иерархический, милитаризованный тип обязанности сдержанности, сколько (нео-) либерализация по своей природе.Об этом свидетельствуют события 2014 года на Украине, которые были особенно неконтролируемыми и опасными для журналистов на местах. Наше исследование военной журналистики в СССР и России дает представление о трансформациях в советских, а затем и российских вооруженных силах, изменениях, происходящих в обществе и политике этой страны, социологии СМИ и журналистики в России, а также в современном мире в России.
В нем описывается их участие в создании официального дискурса и их борьба за разъяснение альтернативных истин. После распада СССР мир военных журналистов стал все более разнообразным и множественным. Карьера и опыт расширились за счет включения гражданских лиц, женщин, иностранцев и неспециалистов. Они в разной степени привержены своей работе, которая была открыта политически, юридически и технически сложным образом. Несмотря на то, что ограничения действительно существуют, это не столько иерархический, милитаризованный тип обязанности сдержанности, сколько (нео-) либерализация по своей природе.Об этом свидетельствуют события 2014 года на Украине, которые были особенно неконтролируемыми и опасными для журналистов на местах. Наше исследование военной журналистики в СССР и России дает представление о трансформациях в советских, а затем и российских вооруженных силах, изменениях, происходящих в обществе и политике этой страны, социологии СМИ и журналистики в России, а также в современном мире в России. Генеральная.
Генеральная.
- 6 Международный круглый стол.Военная и военная журналистика от СССР до России: полевые практики и (…)
3Этот специальный отчет содержит материалы, различающиеся по форме и содержанию. Есть должным образом проверенные научные статьи и личный опыт военных журналистов, описывающих их методы работы. Отчет круглого стола в апреле 2014 г. в Москве6 объединяет взгляды журналистов, историков и практиков на особенности военной журналистики.Рецензии на книги напоминают читателю о том, как много исследований было сделано в этой области. Вместе различные разделы открывают новые возможности для анализа военной журналистики в России.
- 7 См. Вклад Ольги Павленко в апрельский круглый стол 2014 года.
4 Начиная с войн XIX века, особенно в Крыму7, история военной журналистики знаменует собой постепенную профессионализацию. Очевидно, мужская работа до конца холодной войны, военной журналистики и военных репортажей выполнялась офицерами и гражданскими лицами, государственными служащими и писателями, заинтересованными в том, чтобы свидетельствовать о конфликтах своего времени. В разгар советского ХХ века в драме Великой Отечественной войны фигурировала героическая фигура военного корреспондента, будь то международный (например, Александр Верт) или советский (Василий Гроссман). Имеющиеся репортажи показывают, насколько независимыми и субъективной свободой выражения мнений могли бы быть журналисты на передовой в условиях жестокости великого столкновения между советскими и нацистскими военными машинами.Изложение работ и карьеры своего отца Николасом Вертом иллюстрирует личный выбор и обязательства Александра на Восточном фронте. Его статьи были не столько результатом стратегических ограничений, навязанных войной, сколько рассказом о человеке, сражающемся с советскими войсками. В 1941-1945 годах война открывала возможности для журналистского самовыражения, которые, возможно, были больше, чем в более поздние годы, когда был создан иерархический и институциональный аппарат для управления военной журналистикой.
Очевидно, мужская работа до конца холодной войны, военной журналистики и военных репортажей выполнялась офицерами и гражданскими лицами, государственными служащими и писателями, заинтересованными в том, чтобы свидетельствовать о конфликтах своего времени. В разгар советского ХХ века в драме Великой Отечественной войны фигурировала героическая фигура военного корреспондента, будь то международный (например, Александр Верт) или советский (Василий Гроссман). Имеющиеся репортажи показывают, насколько независимыми и субъективной свободой выражения мнений могли бы быть журналисты на передовой в условиях жестокости великого столкновения между советскими и нацистскими военными машинами.Изложение работ и карьеры своего отца Николасом Вертом иллюстрирует личный выбор и обязательства Александра на Восточном фронте. Его статьи были не столько результатом стратегических ограничений, навязанных войной, сколько рассказом о человеке, сражающемся с советскими войсками. В 1941-1945 годах война открывала возможности для журналистского самовыражения, которые, возможно, были больше, чем в более поздние годы, когда был создан иерархический и институциональный аппарат для управления военной журналистикой. После победы пришло время бюрократизировать пресс-службу армии.Публикации, посвященные военному делу времен Брежнева (например, Красная Звезда, ежедневная газета Минобороны СССР), показали это в своей деятельности и содержании. Военных журналистов готовила сама армия, как описывает Иван Чупин в своей статье о военных журналистах в последние годы существования СССР, подтвержденной журналистом Николаем Стародымовым. Эмбарго на военную информацию явно действовало во время войны в Афганистане с участием советских войск.
После победы пришло время бюрократизировать пресс-службу армии.Публикации, посвященные военному делу времен Брежнева (например, Красная Звезда, ежедневная газета Минобороны СССР), показали это в своей деятельности и содержании. Военных журналистов готовила сама армия, как описывает Иван Чупин в своей статье о военных журналистах в последние годы существования СССР, подтвержденной журналистом Николаем Стародымовым. Эмбарго на военную информацию явно действовало во время войны в Афганистане с участием советских войск.
- 8 Об этом еженедельнике см. Соловьев В. Становление независимой военной печати в России: опыт N (…)
5 Поскольку гласность открыла репортаж после 1985 года, военные журналисты стали более разнообразными. Открытость и либерализация российского медиа-мира распространились на военную журналистику. Цензура (Главлит) исчезла. Газеты бывшей советской армии продолжали работать под контролем министерства обороны. Как видно из статьи Софи Момзикофф « Зарубежное военное обозрение», они в значительной степени остались приверженными редакционной линии Советской Армии «Холодная война». Но журналисты из этих редакций воспользовались возможностью критиковать вооруженные силы как институт и перешли в независимые СМИ в то время, когда их экспертные знания ценились. Гражданские СМИ развернули военное освещение, написанное корреспондентами и специалистами. Появились новые публикации, посвященные военной тематике (например, Независимое военное обозрение в середине 1990-х годов8).Площадь, отданная вооруженным силам, стала больше и разнообразнее. Личные отчеты о войне в Афганистане и многих конфликтах, вспыхнувших на постсоветском пространстве (Чечня, Молдова и Нагорный Карабах), получили плюралистическую трактовку в прессе 1990-х годов.
Как видно из статьи Софи Момзикофф « Зарубежное военное обозрение», они в значительной степени остались приверженными редакционной линии Советской Армии «Холодная война». Но журналисты из этих редакций воспользовались возможностью критиковать вооруженные силы как институт и перешли в независимые СМИ в то время, когда их экспертные знания ценились. Гражданские СМИ развернули военное освещение, написанное корреспондентами и специалистами. Появились новые публикации, посвященные военной тематике (например, Независимое военное обозрение в середине 1990-х годов8).Площадь, отданная вооруженным силам, стала больше и разнообразнее. Личные отчеты о войне в Афганистане и многих конфликтах, вспыхнувших на постсоветском пространстве (Чечня, Молдова и Нагорный Карабах), получили плюралистическую трактовку в прессе 1990-х годов.
- 9 МЕ. Жеглова, Феномен «прикомандированной» журналистики. В: Михаил Погорелый, Иван Сафранчук (е (.
 ..)
..)
6В этой разнообразной среде журналисты сделали выбор.Их карьера раскрывает противоречия и противоречия, с которыми они столкнулись, а также найденные ими компромиссы. Некоторые советские военные журналисты вырвались из-под контроля своих бывших работодателей и присоединились к гражданским СМИ (например, Александр Гольц). Другие остались на месте, но изменили свое видение вооруженных сил и изменили свою редакционную линию. Эти карьеры и практики стали более разнообразными, и Иван Чупин описывает две концепции работы: одна идет по линии армии, а другая — критическая и исследовательская.В ответ военные власти попытались контролировать эти изменения, посылая собственных журналистов писать для гражданских изданий9. Однако их контроль терял свою силу. В сообществе военных журналистов появлялись новые профессионалы. Иностранные корреспонденты выезжали в районы бывшего Советского Союза и наладили отношения с российскими журналистами (см. Отчет военного фотографа Юрия Тутова). Эти новые договоренности подняли вопрос об отношениях и обменах между журналистами различного происхождения, а также о конкретных ограничениях, налагаемых на них.В этот период в военную журналистику приходили и женщины. Примеры: Анна Политковская, освещающая войну в Чечне, и Ольга Алленова, журналистка на Коммерсантъ, в том же театре. Эта диверсификация привела к множественности обращения с военной информацией. В этом выпуске PIPSS рассказ Алленовой показывает, как она перестала быть сторонницей «восстановления порядка» в Чечне в начале 2000-х годов, увидев насилие, которое это повлекло за собой (см. Рецензию Амандин Регами на ее книгу).Алленова описывает растущее понимание преступных злоупотреблений антитеррористической операции в Чечне. Интервью с Тутовым показывает, как он дистанцировался от СМИ МВД и стал больше сотрудничать с международными агентствами печати. Эти журналисты продемонстрировали свою независимость суждений в меняющемся военном мире. В последнее время, с начала 2000-х годов, эта независимость возросла в результате появления новых информационных и коммуникационных технологий, расширяющих диапазон журналистской практики.
Эти новые договоренности подняли вопрос об отношениях и обменах между журналистами различного происхождения, а также о конкретных ограничениях, налагаемых на них.В этот период в военную журналистику приходили и женщины. Примеры: Анна Политковская, освещающая войну в Чечне, и Ольга Алленова, журналистка на Коммерсантъ, в том же театре. Эта диверсификация привела к множественности обращения с военной информацией. В этом выпуске PIPSS рассказ Алленовой показывает, как она перестала быть сторонницей «восстановления порядка» в Чечне в начале 2000-х годов, увидев насилие, которое это повлекло за собой (см. Рецензию Амандин Регами на ее книгу).Алленова описывает растущее понимание преступных злоупотреблений антитеррористической операции в Чечне. Интервью с Тутовым показывает, как он дистанцировался от СМИ МВД и стал больше сотрудничать с международными агентствами печати. Эти журналисты продемонстрировали свою независимость суждений в меняющемся военном мире. В последнее время, с начала 2000-х годов, эта независимость возросла в результате появления новых информационных и коммуникационных технологий, расширяющих диапазон журналистской практики. Уменьшение технических ограничений, миниатюризация записывающих устройств и скорость передачи приводят к более быстрому распространению информации, в том числе из зон боевых действий. Таким образом, возможности, доступные военным журналистам, расширяются.
Уменьшение технических ограничений, миниатюризация записывающих устройств и скорость передачи приводят к более быстрому распространению информации, в том числе из зон боевых действий. Таким образом, возможности, доступные военным журналистам, расширяются.
7Но эта диверсификация вызвала сильную напряженность. Это можно было увидеть на круглом столе по военной журналистике, который прошел в апреле 2014 года в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в Москве в партнерстве с Международным комитетом Красного Креста (МККК).Андрей Раскин, профессор журналистики РГГУ, перечислил новые трудности, с которыми военная журналистика сталкивается в настоящее время. Он сказал, что неподготовленных журналистов часто посылают освещать боевые действия, демонстрируя большую независимость, но рискуя своей личной безопасностью. Он выразил обеспокоенность по поводу присутствия в операционных залах независимых журналистов с неопределенным статусом, которым предоставлена большая свобода, но слабая защита со стороны их редакционных руководителей. Он также поставил под сомнение легитимность женщин освещать конфликты: «Военная журналистика в целом« не место для женщин », — сказал он.Независимость журналистов, более разнообразный опыт и преданность гражданскому сообществу поднимают вопрос об их безопасности на военных театрах и вызывают недоверие со стороны профессионалов военной журналистики.
Он также поставил под сомнение легитимность женщин освещать конфликты: «Военная журналистика в целом« не место для женщин », — сказал он.Независимость журналистов, более разнообразный опыт и преданность гражданскому сообществу поднимают вопрос об их безопасности на военных театрах и вызывают недоверие со стороны профессионалов военной журналистики.
- 10 A.-J. Bizimana, Au cœur du dispositif embedding: la monitoring des journalistes intégrés lors de (…)
- 11 Х. Тамбер, Дж. Палмер, СМИ в состоянии войны. Иракский кризис, Лондон, Sage, 2004.
8 В российских вооруженных силах это недоверие привело к появлению новых коммуникационных стратегий, более подходящих для постсоветской политической и медийной реальности. Раскин охарактеризовал определенное недоверие вооруженных сил к независимым журналистам. Но и военные власти осознают необходимость работы с журналистами. Военные институты испытывают более гибкие типы ограничений, часто вдохновленные западной практикой. «Внедрение» журналистов во время вооруженного конфликта позволяет контролировать передачу информации.Встраивание позволяет журналистам быть в центре событий и транслировать достоверные фактические отчеты о военных действиях, но при этом поднимает вопрос об их слежке10 и официальной эксплуатации их во время кризисов11. Практика общения была разработана российской армией во время Второй чеченской войны с 1999 года. Журналисты могут даже быть признательны за то, чтобы их зачислили таким образом. Александр Сладков, известный российский телеведущий, сказал: «Встроенная журналистика — хороший прогрессивный способ урегулировать связи между гражданскими лицами и военными.Крупномасштабный пример встроенной журналистики был бы в Советской Армии во время Второй мировой войны, когда 280 операторов снимали фильмы ». Эта ссылка на Великую Отечественную войну используется для оправдания нынешних договоренностей о сотрудничестве между вооруженными силами и журналистами.
Военные институты испытывают более гибкие типы ограничений, часто вдохновленные западной практикой. «Внедрение» журналистов во время вооруженного конфликта позволяет контролировать передачу информации.Встраивание позволяет журналистам быть в центре событий и транслировать достоверные фактические отчеты о военных действиях, но при этом поднимает вопрос об их слежке10 и официальной эксплуатации их во время кризисов11. Практика общения была разработана российской армией во время Второй чеченской войны с 1999 года. Журналисты могут даже быть признательны за то, чтобы их зачислили таким образом. Александр Сладков, известный российский телеведущий, сказал: «Встроенная журналистика — хороший прогрессивный способ урегулировать связи между гражданскими лицами и военными.Крупномасштабный пример встроенной журналистики был бы в Советской Армии во время Второй мировой войны, когда 280 операторов снимали фильмы ». Эта ссылка на Великую Отечественную войну используется для оправдания нынешних договоренностей о сотрудничестве между вооруженными силами и журналистами.
9 Работа военных журналистов регулируется новыми законодательными кодексами. В начале 2010-х было принято большое количество законов, регулирующих деятельность газет, их редакций и независимых журналистов, ведущих блоги (теперь они считаются СМИ, если у них более 3000 посещений в день).Также была расширена роль Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) в контроле за медиаконтентом. Хотя прямое институциональное ограничение в виде цензуры исчезло, политический контроль над военными журналистами принял множество новых форм. «Законы, регулирующие журналистику в России, не так уж и плохи, поскольку основаны на французских законах; однако за последние несколько лет в них были внесены существенные поправки.Теперь законы действуют более ограничительно, оправдывая границы последнего закона о борьбе с терроризмом », — говорит Галина Арапова из Центра защиты СМИ. Эти правовые формы контроля за деятельностью журналистов не гарантируют безопасность профессионалов. Насилие в отношении критически настроенных независимых журналистов (убийства, например, Дмитрия Холодова и Анны Политковской) иллюстрирует опасность этой профессии. За последние три года в России было убито 250 журналистов (по данным Араповой).
Насилие в отношении критически настроенных независимых журналистов (убийства, например, Дмитрия Холодова и Анны Политковской) иллюстрирует опасность этой профессии. За последние три года в России было убито 250 журналистов (по данным Араповой).
10 С весны 2014 года боевые действия в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины по иронии судьбы выявили как свободы, которыми пользуются военные журналисты, так и ограничения, в которых они работают. Этот конфликт, широко освещаемый в печатных и цифровых СМИ, также является одним из самых опасных для журналистов и наиболее внимательно отслеживается средствами массовой информации. В этой необъявленной войне, включающей антитеррористические операции, партизанскую войну и тайную контрразведку, контроль над военной журналистикой и военными репортажами варьируется и может даже отсутствовать.Поскольку официального объявления войны не было, система включения журналистов в вооруженные силы не действует. Таким образом, освещение новостей зависит от инициативы специальных корреспондентов, отчетов представителей общественности, частичной и гражданской журналистики, публикаций в Интернете и блогов, открытых для более чем одной интерпретации. Неопределенность нынешнего конфликта и сомнения в личности его главных героев ставят журналистов извне в опасное положение. Согласно статистике Reporter sans frontières 12, количество произвольных арестов и исчезновений журналистов на востоке Украины резко возросло весной и летом 2014 года.Жертвами конфликта являются все категории журналистов любой национальности (русские, украинцы или западные страны) или СМИ (телевидение, радио, печать). Повстанцы Донецкой Народной Республики фактически издали в июле 2014 года указ, запрещающий «журналистам, операторам и фоторепортерам» «находиться в зонах боевых действий и вблизи военных объектов» во время боевых действий. Эти меры, ограничивающие доступ на театр военных действий, позволяют по-разному трактовать военную ситуацию.
Таким образом, освещение новостей зависит от инициативы специальных корреспондентов, отчетов представителей общественности, частичной и гражданской журналистики, публикаций в Интернете и блогов, открытых для более чем одной интерпретации. Неопределенность нынешнего конфликта и сомнения в личности его главных героев ставят журналистов извне в опасное положение. Согласно статистике Reporter sans frontières 12, количество произвольных арестов и исчезновений журналистов на востоке Украины резко возросло весной и летом 2014 года.Жертвами конфликта являются все категории журналистов любой национальности (русские, украинцы или западные страны) или СМИ (телевидение, радио, печать). Повстанцы Донецкой Народной Республики фактически издали в июле 2014 года указ, запрещающий «журналистам, операторам и фоторепортерам» «находиться в зонах боевых действий и вблизи военных объектов» во время боевых действий. Эти меры, ограничивающие доступ на театр военных действий, позволяют по-разному трактовать военную ситуацию. В отсутствие какой-либо четкой институциональной, правовой или политической базы новые свободы, предоставляемые постсоветской либерализацией и новыми СМИ, не привели автоматически к плюралистическому освещению военных событий, но ставят под угрозу как журналистов, так и плюрализм информации. Таким образом, военная журналистика является отражением социальных и политических преобразований, произошедших в современной России и в регионах ее вмешательства. Это может быть свидетельство, выражение мнения и приверженность — признак независимости журналистов.Но такая степень субъективности обходится дороже, чем где-либо еще, в отсутствие каких-либо эффективных публичных процедур защиты ее авторов.
В отсутствие какой-либо четкой институциональной, правовой или политической базы новые свободы, предоставляемые постсоветской либерализацией и новыми СМИ, не привели автоматически к плюралистическому освещению военных событий, но ставят под угрозу как журналистов, так и плюрализм информации. Таким образом, военная журналистика является отражением социальных и политических преобразований, произошедших в современной России и в регионах ее вмешательства. Это может быть свидетельство, выражение мнения и приверженность — признак независимости журналистов.Но такая степень субъективности обходится дороже, чем где-либо еще, в отсутствие каких-либо эффективных публичных процедур защиты ее авторов.
Советская журналистика и Союз журналистов, 195 »Мэри Кэтрин Френч
Название степени
Доктор философских наук
Абстрактные
Эта диссертация представляет собой историческое исследование Союза журналистов Советского Союза, первого творческого союза профессионалов СМИ в СССР и первого исследования творческой профессии после смерти Сталина. Хотя социалистическая журналистика существовала еще до революций 1917 года, журналисты не были включены в профессиональную организацию до 1959 года, на несколько десятилетий позже их коллег из других творческих профессий. Используя источники из российских и американских архивов вместе с опубликованными документами, я исследовал причины создания организации и ее внутренней и творческой деятельности по «развитию профессионального мастерства» у ее членов дома, продвигая советское дело за рубежом. В первой главе исследуются причины образования Союза журналистов и взаимосвязь между советской культурной дипломатией и отечественной профессионализацией.Во второй главе описываются попытки журналистов разобраться в непосредственных последствиях десталинизации на примере газеты Коммунистического союза молодежи. Третья глава описывает формальное учреждение творческого союза и дебаты о ценности журналистики на его учредительном съезде. Четвертая глава посвящена международной работе творческого союза, в частности его управлению Международной организацией журналистов, подставной организацией, базирующейся в Праге, и демонстрирует, что журналисты были ключевыми участниками усилий Советского Союза по созданию положительной международной репутации, особенно в развивающихся странах.
Хотя социалистическая журналистика существовала еще до революций 1917 года, журналисты не были включены в профессиональную организацию до 1959 года, на несколько десятилетий позже их коллег из других творческих профессий. Используя источники из российских и американских архивов вместе с опубликованными документами, я исследовал причины создания организации и ее внутренней и творческой деятельности по «развитию профессионального мастерства» у ее членов дома, продвигая советское дело за рубежом. В первой главе исследуются причины образования Союза журналистов и взаимосвязь между советской культурной дипломатией и отечественной профессионализацией.Во второй главе описываются попытки журналистов разобраться в непосредственных последствиях десталинизации на примере газеты Коммунистического союза молодежи. Третья глава описывает формальное учреждение творческого союза и дебаты о ценности журналистики на его учредительном съезде. Четвертая глава посвящена международной работе творческого союза, в частности его управлению Международной организацией журналистов, подставной организацией, базирующейся в Праге, и демонстрирует, что журналисты были ключевыми участниками усилий Советского Союза по созданию положительной международной репутации, особенно в развивающихся странах.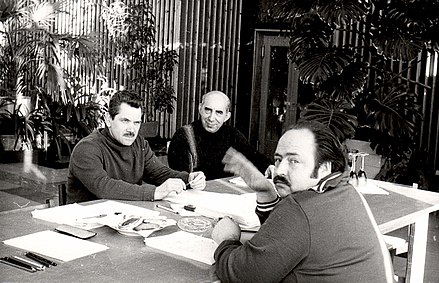 Мир.В пятой главе рассказывается о дебатах о жанрах и вовлечении аудитории, которые волновали элитных журналистов в годы после создания творческого союза. В шестой главе описаны изменения в журналистской профессии при Брежневе и усилия журналистов по преобразованию творческого союза во втором десятилетии его существования. В эпилоге прослеживается судьба моих главных героев и проблемы профессионализации в путинской России. На протяжении всего исследования я описываю, как журналисты формулировали и продвигали свои собственные идеи о значении и ценности своей профессии, несмотря на то, что они признавали ведущую роль Коммунистической партии и часто реагировали на политическое вмешательство в их работу.
Мир.В пятой главе рассказывается о дебатах о жанрах и вовлечении аудитории, которые волновали элитных журналистов в годы после создания творческого союза. В шестой главе описаны изменения в журналистской профессии при Брежневе и усилия журналистов по преобразованию творческого союза во втором десятилетии его существования. В эпилоге прослеживается судьба моих главных героев и проблемы профессионализации в путинской России. На протяжении всего исследования я описываю, как журналисты формулировали и продвигали свои собственные идеи о значении и ценности своей профессии, несмотря на то, что они признавали ведущую роль Коммунистической партии и часто реагировали на политическое вмешательство в их работу.
Рекомендуемое цитирование
Френч, Мэри Кэтрин, «Репортаж о социализме: советская журналистика и Союз журналистов, 1955-1966» (2014). Общедоступные диссертации Пенсильвании . 1277.
https://repository.upenn.edu/edissertations/1277
корреспондентов времен холодной войны: советские и американские репортеры на идеологическом фронте
Между 1945 и 1991 годами десятки американских и советских журналистов переехали в столицы коммунизма и капитализма, чтобы рассказать о соперничающей сверхдержаве. Они хотели понять страну, которая, казалось, противостоит всему, что им дорого, и рассказать об этой стране своим читателям. Они годами жили за границей, путешествовали, заводили друзей, читали местные газеты, ходили в кино, делали покупки, водили своих детей на игровую площадку и писали об этом опыте для публики дома. В эпоху закрытых границ репортажи иностранных корреспондентов были ближайшим читателем, который мог попасть в Москву или Нью-Йорк.Обычные люди, эксперты и политики с обеих сторон пришли посмотреть на Советский Союз или Соединенные Штаты глазами этих журналистов.
Они хотели понять страну, которая, казалось, противостоит всему, что им дорого, и рассказать об этой стране своим читателям. Они годами жили за границей, путешествовали, заводили друзей, читали местные газеты, ходили в кино, делали покупки, водили своих детей на игровую площадку и писали об этом опыте для публики дома. В эпоху закрытых границ репортажи иностранных корреспондентов были ближайшим читателем, который мог попасть в Москву или Нью-Йорк.Обычные люди, эксперты и политики с обеих сторон пришли посмотреть на Советский Союз или Соединенные Штаты глазами этих журналистов. Моя первая встреча с этими героями произошла через книги, которые американские и советские журналисты написали в конце своих заданий. Это были подробные отчеты, в которых журналисты подробно рассказывали о Советском Союзе или Соединенных Штатах и рассказывали о своем личном и профессиональном опыте. Книги были полны увлекательных историй и вдумчивых анализов жизни по ту сторону.Но что меня удивило, так это то, как много в книгах рассказывается о взглядах журналистов на их собственные общества. Меня поразило, что приглашение читать сравнительно, проводить параллели между Советским Союзом и Соединенными Штатами, размышлять над одним, как вы читали о другом, было встроено в эти тексты как косвенно, так и явно. Меня интересовало, что в двух таких разных политических системах и медиа-культурах одна и та же группа людей — профессиональные журналисты — отвечала за представление внешнего мира внутренней аудитории, и что при этом обе группы журналистов размышляли о холодной войне. соперник и на свои страны.
Меня поразило, что приглашение читать сравнительно, проводить параллели между Советским Союзом и Соединенными Штатами, размышлять над одним, как вы читали о другом, было встроено в эти тексты как косвенно, так и явно. Меня интересовало, что в двух таких разных политических системах и медиа-культурах одна и та же группа людей — профессиональные журналисты — отвечала за представление внешнего мира внутренней аудитории, и что при этом обе группы журналистов размышляли о холодной войне. соперник и на свои страны.
Однако после окончания холодной войны работа американских и советских иностранных корреспондентов оценивалась по-разному. Американские репортажи из Советского Союза запомнились как точное, объективное изображение действительности. Советские репортажи из США изображались как пропаганда, которая намеренно искажала реальность и выставляла ее в негативном свете.
Мое чтение книг журналистов показало, что дела обстоят не так однозначно. Например, сообщения американских корреспондентов о Советском Союзе часто совпадали с идеями, которые доминировали в пропаганде правительства США внутри страны и за рубежом.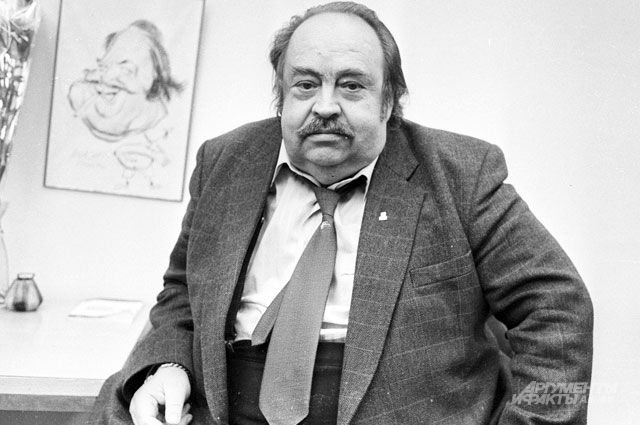 Репортажи советских корреспондентов из США часто выходили за рамки официальных заявлений и содержали сложные и тонкие изображения американской жизни. Журналисты с обеих сторон часто опирались на опыт тех, кто разочаровался в обещаниях социалистической утопии или американской мечты, эффективно направляя критику, которую люди с обеих сторон высказывали против их собственных социально-политических систем.
Репортажи советских корреспондентов из США часто выходили за рамки официальных заявлений и содержали сложные и тонкие изображения американской жизни. Журналисты с обеих сторон часто опирались на опыт тех, кто разочаровался в обещаниях социалистической утопии или американской мечты, эффективно направляя критику, которую люди с обеих сторон высказывали против их собственных социально-политических систем.
Связывание одной группы журналистов с правдой, а другой — с ложью не оправдывает эти богатые источники.Как советские, так и американские корреспонденты утверждали, что говорят правду, и я решил, что к этим утверждениям следует отнестись серьезно и подвергнуть сомнению. Среди центральных вопросов в моей книге « корреспондент холодной войны, » — то, что «правда» значила для американских и советских корреспондентов и как их заявления о том, что они говорят правду, порождают диаметрально противоположные рассказы о том, чем на самом деле были Советский Союз и Соединенные Штаты.
Приказ Корреспонденты холодной войны: советские и американские репортеры на идеологическом фронте по следующей ссылке: https: // jhupbooks.press.jhu.edu/title/cold-war-corresponients
Дина Файнберг — доцент кафедры современной истории Лондонского городского университета. Она является автором книги Корреспонденты холодной войны: советские и американские репортеры на идеологическом фронте и соредактором книги Пересмотр застоя: идеология и обмен в брежневскую эпоху .
Работал в советской газете в сталинские времена. Журналист из США вспоминает время как сотрудник «Московских новостей
». Недавний отчет репортера «Монитора» о трех месяцах работы журналиста по обмену в «Московских новостях» напомнил о времени, более 50 лет назад, когда советская газета регулярно нанимала молодых американских журналистов.Некоторое время я был одним из них. Страна была в муках своего первого пятилетнего плана. Американцы, оправившись от депрессии, последовавшей за крахом фондового рынка в 1929 году, начали с надеждой смотреть на советский спрос на промышленное оборудование и знания.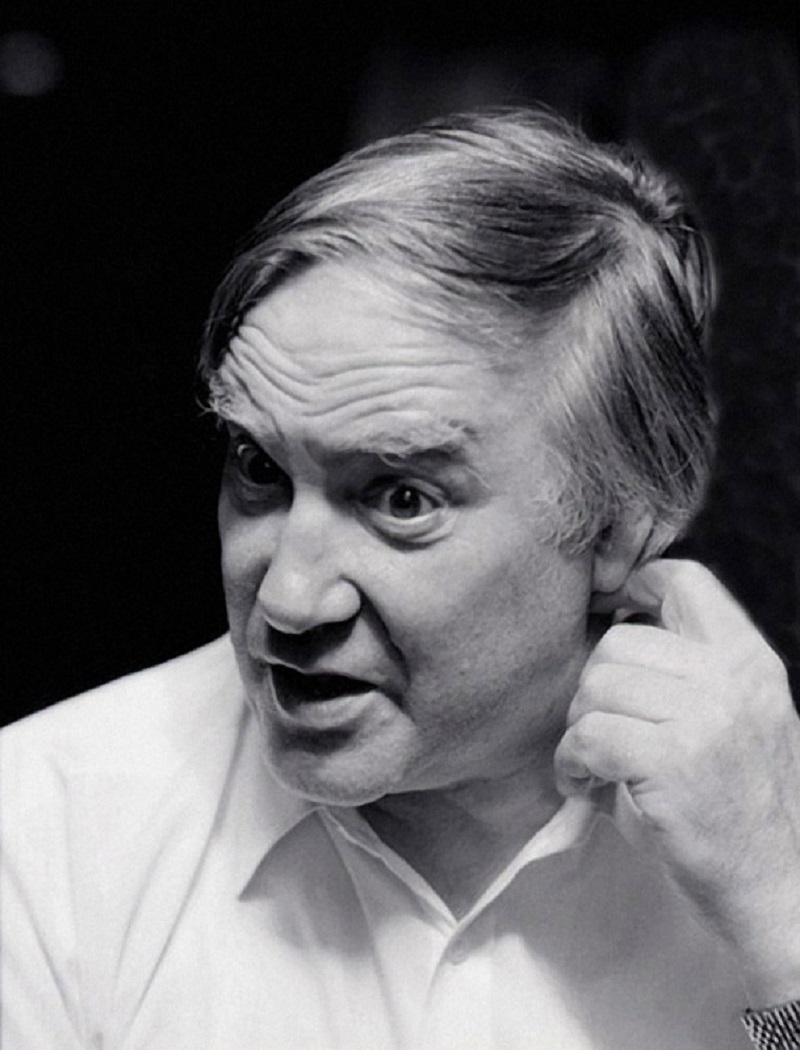 Сотни квалифицированных и неквалифицированных рабочих эмигрировали в Советский Союз.
Сотни квалифицированных и неквалифицированных рабочих эмигрировали в Советский Союз.
Где-то в Кремле возникла идея, что Советскому Союзу нужна собственная англоязычная газета для обслуживания растущей иностранной колонии и студентов, изучающих английский язык.Решающим аргументом была перспектива американского дипломатического признания Советского Союза.
Входят Михаил Бородин и Анна Луиза Стронг.
Михаил Грузенберг, более известный под вымышленным именем Бородин, был одним из последователей Владимира Ленина в подпольном большевистском движении в начале века. В 1923 году его отправили воспитывать Сунь Ятсена, великого националиста, пытавшегося объединить Китай. Бородин стал гуру не только Sun, но и некоторых американских корреспондентов в Китае.
Один из журналистов, сидевших у ног Бородина, был Стронг. Она уехала в Россию в качестве сотрудника Американской администрации помощи Герберта Гувера в начале 20-х годов, вернулась репортером журнала и стала горячим поклонником Советского Союза.
Вернувшись в Москву, Бородину поручили справиться с наплывом инженеров и специалистов из Америки. Однажды он спросил Стронга, не хочет ли она открыть в Москве газету в американском стиле. Она согласилась набрать штат и запустить газету, но не решалась взять на себя ответственность за ее ведение.Она знала подводные камни борьбы с советской бюрократией.
Вскоре ее опасения оправдались.
В разношерстный коллектив, который она собрала осенью 1930 года, входили несколько профессиональных журналистов и несколько одаренных любителей. Они не могли сравниться с советскими условиями и советскими цензорами. Русские наборщики, которые устанавливали шрифт, не знали английского языка. После того, как сотрудники кропотливо откорректировали доказательства и составили первый выпуск, цензоры взломали. Сильный штурмовал их, но она была бессильна.Оставленные ими пробелы были заполнены переводами из советских газет.
После трех недель бесплодной борьбы с цензорами и советскими чиновниками, контролирующими газету, она уехала в свой ежегодный тур по Америке с лекциями. Копии газеты, дошедшие до нее в Америке, заставили ее плакать.
Копии газеты, дошедшие до нее в Америке, заставили ее плакать.
Она вернулась в Москву в начале 1931 года и подала в отставку. Это даже не было признано. Ей удалось добиться от советского редактора Т.Л. Аксельрод уволен (на время), но его замена, Виктор Вацов, была хуже.Она уехала в отпуск и рассказала о своей проблеме Джоэлю Шубину, симпатизирующему функционеру министерства иностранных дел (за которого она позже вышла замуж). Она тоже ходила к Бородину. Она подумывала вернуться в США и написать разоблачение советской журналистики. Тогда Бородин посоветовал ей обратиться с письмом к советскому диктатору Иосифу Сталину.
Через пять дней Сталин принял ее в Кремле. С ним были Лазарь Каганович и маршал Клименти Ворошилов, его главные помощники. Пришел и Вацов.
Сталин привлек Вацова к ответственности за то, что он лишил Стронга власти, сохранив ее имя на мачте. Поднялся вопрос о конкурирующей газете Worker’s News. Разве инженеры (для которых предназначались «Московские новости») и рабочие не были разными? — В Америке они мало чем отличаются, — ответил Стронг. в двух еженедельниках не было необходимости. Нужен был один день. Сталин кивнул. Это был конец Worker’s News.
в двух еженедельниках не было необходимости. Нужен был один день. Сталин кивнул. Это был конец Worker’s News.
Должен быть советский « ответственный редактор ». Редактор? Михаил Бородин.
Персонал прошел на первомайском параде, держа в руках экземпляры первого номера « новой » газеты Moscow Daily News от 1 мая 1932 года.
Как и все советские газеты того времени, он состоял из четырех стандартных газет. размер страниц без рекламы. Американские и британские сотрудники опубликовали позитивные тематические статьи о советской жизни и прогрессе. (Они были перепечатаны в еженедельном выпуске на глянцевой бумаге, продаваемом за рубежом.) Американские инженеры и рабочие на строительных объектах по всей стране отправляли письма о своей работе, своих трудностях и жалобах.Так называемый отдел масс газеты, как омбудсмен, должен был вмешаться в дела чиновников, чтобы сгладить проблемы; в основном он просто редактировал жалобы. Передовица на первой полосе повторила ежедневную Коммунистическую партию «Правда». Информационное наполнение газеты никогда не поднималось выше уровня источника — официального информационного агентства ТАСС.
Пожилые женщины доставили мимеографированные депеши ТАСС, которые советские переводчики, диктуя машинисткам, переводили на английский язык. Иногда другие курьеры доставляли заказы на конкретный предмет, указывая требуемый размер, положение на странице и формулировку его заголовка, который затем одинаково появлялся во всех советских газетах.Время от времени приходили приказы задержать выпуск по истечении крайнего срока объявления. В результате газета часто появлялась с опозданием на 24 часа.
Один из редакторов — Бородин, Аксельрод или Шубин — прибыл на дежурство в конце дня и прочитал каждую страницу корректуры, строка за строкой, затем подписал корректуру, в то время как цензор в типографии делал то же самое. Позже цензор проверил первую копию на печати, чтобы убедиться, что она полностью соответствует утвержденным пробным листам.
Бородин закрепил за газетой богато украшенный двухэтажный особняк на Петровском переулке в самом центре Москвы.В квартире на первом этаже фотографы проявляли негативы, а ретушеры иногда делали составные снимки, переставляя групповые сцены, вставляя свежие лица вместо лиц на фотографиях.
Заблудшие американские журналисты — с 1933 по 1938 год я был одним из них — туристы и попутчики приходили и уходили, оплачивая свое пребывание работой в газете.
Потом начались чистки.
Один за другим были арестованы трое сотрудников, все из которых советские граждане, какое-то время проживавшие за границей — редактор иностранных новостей, бизнес-менеджер, звездный переводчик — были арестованы, а также мастера по макияжу на иностранном языке. типография, где печатали бумагу.Каждый раз Бородин собирал нас и читал лекцию, пытаясь оправдать чистку. Мы, американцы и британцы, оставались потрясенными, молчаливыми и удивленными. Стронг отказалась посещать эти собрания персонала, но в своих трудах и лекциях защищала Сталина и чистки.
Газета была закрыта в конце февраля 1938 года, когда над Европой сгущались тучи войны, а Сталин готовился к пакту с Адольфом Гитлером.
Стронг остался в качестве редактора, но другие американцы из штата собрались и ушли, в том числе и я.
Когда немецкие войска наступали на Москву поздней осенью 1941 года, москвичи перебрасывали машины и персонал целых заводов через Урал и Сибирь по железной дороге в Куйбышев. Они вернулись в холодную, заколоченную, затемненную Москву после снятия блокады в 1942 году.
Я вернулся с американской военной миссией и посетил Бородина. Он казался подавленным. Все, над чем он работал, казалось, находится под угрозой.
Стронг приехал в Москву в качестве военного корреспондента. После войны она посетила опорные пункты коммунистов в Китае.Не обращая внимания на то, что Сталин не доверял Мао Цзэ-дуну, она восхищенно писала о Мао. Она не могла понять, почему «Правда» и восточноевропейские издатели отклонили ее рукописи. Бородин сказал ей, что Кремль недоволен ее писаниями, но она отказалась внести предложенные им изменения.
Наконец, она приехала в Москву в 1949 году, решив попасть в контролируемый коммунистами регион Китая через Советский Союз. Она проигнорировала тот факт, что Советский Союз поддерживал дипломатические отношения с Чан Кайши, а не с войсками Мао.
В ночь на 3 февраля 1949 года тайная полиция арестовала Стронга, Бородина и сотрудников «Московских новостей». Коллектив вскоре был освобожден, но газета перестала выходить.
Бородин исчез в сибирском трудовом лагере. После пяти дней в тюрьме на Лубянке Стронг был выслан из Советского Союза по абсурдному обвинению в том, что он американский шпион.
На волне « реабилитации » жертв Сталина при Никите Хрущеве Стронгу было снято обвинение в шпионаже.В конце концов она уехала в Китай и до конца оставалась сторонницей Мао.
Бородин умер в трудовом лагере в Сибири в 1951 году. Новости просочились только через шесть месяцев после смерти Сталина в 1953 году. Бородину дали краткую «реабилитацию» в 1964 году, более чем через десять лет после его кончины.
«Московские новости» снова появились в 1956 году, а с 1986 года, когда Егор Яковлев был назначен их редактором, они превратились в редакторский флагман гласности (открытости) и перестройки (реструктуризации).
Лео Грулиов был московским корреспондентом The Christian Science Monitor и почетным редактором еженедельника Current Digest of the Soviet Press, издающегося в Университете штата Огайо.
Линда Фельдманн, репортер Monitor, упомянутый в этой статье, поехала в Москву на журналистский обмен, организованный Обществом редакторов газет Новой Англии. Ее статьи появились 11, 14 и 15 сентября.
Пресса и социалист после Сталина
Скандалы — это контекстно-зависимые СМИ и реакция общественности, иногда граничащая с возмущением, на правонарушения и моральные недостатки в широком спектре политических, социальных, культурных, деловых, финансовых, экономических, СМИ. , и особенно в сексуальной сфере.Слово «скандал» имеет религиозное, метафорическое происхождение. Латинское слово scandalum происходит от греческого слова scan-dalon, что означает «препятствие» или «камень преткновения». Скандалы охватывают моральные и правовые недостатки, начиная от политической коррупции и злоупотребления властью до незаконных сексуальных домогательств и незаконного сексуального удовлетворения. Хотя скандалы изначально были справедливым возмущением или возмущением по поводу религиозных и моральных правонарушений, в современных обществах они представляют собой общественное возмущение правонарушениями или этическими нарушениями в широком спектре человеческой деятельности.Безусловно, некоторые скандалы являются результатом правонарушений, но большинство — выражением осуждения моральных недостатков. Скандалы стары как человечество. Они часто затрагивают вопросы, имеющие общественное измерение, затрагивают общественный интерес, говорят о характере политических лидеров и, следовательно, привлекают внимание средств массовой информации. Обычно это освещение вызывает возмущение общественности. Уотергейтский подслушивающий скандал, охвативший администрацию Никсона, и сексуальный скандал Клинтона и Моники Левински были реакцией СМИ и общественности на предполагаемые правовые и моральные правонарушения в области политики и сексуальной морали (Dershowitz 1998).Параметры конкретных режимов свободы слова и выражения определяют то, как СМИ освещают скандалы. Предпосылка этой главы состоит в том, что существует множество правовых контекстов для сообщения о скандалах. Фактическая свобода действий в отношении репортажей зависит от уровня редакционной независимости, который позволяет прессе конкретная система законодательства о СМИ. В некоторых юрисдикциях закон классифицирует определенные виды юридических и моральных правонарушений как «возмутительные» или скандальные. На протяжении веков французское право признавало расплывчатые и чрезмерно широкие составы преступлений «outrage aux bonnes moeurs et à l’ordre publique» (оскорбление общественной порядочности или морали).В 1990-е годы этот расплывчатый моралистический язык, криминализирующий преступления против общественной порядочности и нравственности, был заменен столь же расплывчатым моралистическим заявлением о «посягательстве на человеческое достоинство». Этот новый стандарт применим к производству и распространению порнографии с насилием, вызывающей возмущение у публики. Тем не менее, французские СМИ используют мировой «скандал» для описания публичных разногласий, включающих личные, политические и корпоративные должностные преступления (AFP 2018). В этой главе скандалы концептуализируются как реактивные явления, вызванные выбором, построением и представлением СМИ в реальном пространстве и киберпространстве реальных или предполагаемых нарушений установленных правовых, моральных, профессиональных, социальных и политических норм в конкретных юрисдикциях.
Как Сталин скрыл голод на Украине от всего мира
В 1932 и 1933 годах катастрофический голод охватил весь Советский Союз. Это началось в хаосе коллективизации, когда миллионы крестьян были изгнаны со своей земли и отправлены в совхозы. Затем он обострился осенью 1932 года, когда Советское Политбюро, элитное руководство Коммунистической партии Советского Союза, приняло ряд решений, которые усугубили голод в украинской деревне. Несмотря на дефицит, государство требовало не только зерна, но и всех имеющихся продуктов.В разгар кризиса организованные группы полицейских и местных партийных активистов, движимые голодом, страхом и десятилетием ненавистной пропаганды, проникли в крестьянские дома и забрали все съедобное: картофель, свеклу, кабачки, фасоль, горох и сельскохозяйственных животных. . При этом вокруг Украинской республики был оцеплен кордон, чтобы предотвратить побег. Результатом стала катастрофа: не менее 5 миллионов человек погибли от голода по всему Советскому Союзу. Среди них было почти 4 миллиона украинцев, которые умерли не из-за запущенности или неурожая, а из-за того, что их намеренно лишали еды.
Ни украинский голод, ни советский голод в целом никогда официально не признавались СССР. Внутри страны о голоде никогда не упоминалось. Все обсуждения активно подавлялись; статистика была изменена, чтобы скрыть это. Ужас был настолько непреодолимым, что воцарилась полная тишина. Однако за пределами страны для сокрытия требовалась другая, более тонкая тактика. Это прекрасно иллюстрируют параллельные истории Уолтера Дюранти и Гарета Джонса.
* * *
В 1930-е годы все члены московского пресс-корпуса вели шаткое существование.В то время им требовалось разрешение государства на проживание в СССР и даже на работу. Без подписи и печати пресс-службы Центральный телеграф не отправлял бы свои депеши за границу. Чтобы получить это разрешение, журналисты регулярно вели переговоры с цензорами министерства иностранных дел о том, какие слова они могут использовать, и они поддерживали хорошие отношения с Константином Уманским, советским чиновником, ответственным за корпус иностранной прессы. Уильям Генри Чемберлин, в то время московский корреспондент Christian Science Monitor , писал, что иностранный репортер «работает под Дамокловым мечом — угрозой изгнания из страны или отказа в разрешении на повторный въезд в нее, который из конечно сводится к тому же самому.”
Дополнительные награды были доступны тем, кто, как Уолтер Дюранти, особенно хорошо играл в игру. Дюранти был . Корреспондент New York Times в Москве с 1922 по 1936 год, роль, которая на какое-то время сделала его относительно богатым и знаменитым. Британец по происхождению, Дюранти не имел никаких связей с идеологическими левыми, занимая, скорее, позицию упрямого и скептически настроенного «реалиста», пытающегося выслушать обе стороны истории. «Можно возразить, что вивисекция живых животных — это печальное и ужасное дело, и правда, что кулаки и другие противники советского эксперимента не из счастливых», — писал он в 1935 году. так называемые зажиточные крестьяне, которых Сталин обвинял в голоде.Но «в обоих случаях причиненные страдания совершаются с благородной целью».
Это положение сделало Дюранти чрезвычайно полезным для режима, который приложил все усилия, чтобы Дюранти хорошо жил в Москве. У него была большая квартира, у него была машина и любовница, у него был лучший доступ из всех корреспондентов, и он дважды получал желанные интервью со Сталиным. Но внимание, которое он привлек своим репортажем в США, похоже, было его основной мотивацией. Его послания из Москвы сделали его одним из самых влиятельных журналистов своего времени.В 1932 году его серия статей об успехах коллективизации и пятилетнем плане принесла ему Пулитцеровскую премию. Вскоре после этого Франклин Рузвельт, тогдашний губернатор Нью-Йорка, пригласил Дюранти в особняк губернатора в Олбани, где кандидат в президенты от Демократической партии засыпал его вопросами. «На этот раз я задал все вопросы. Это было потрясающе », — сказал Рузвельт другому репортеру.
По мере обострения голода Дюранти, как и его коллеги, не сомневался в желании режима подавить его.В 1933 году министерство иностранных дел стало требовать от корреспондентов представления предлагаемого маршрута перед поездкой в провинцию; все просьбы о посещении Украины были отклонены. Цензоры также начали контролировать рассылки. Были разрешены некоторые фразы: «острая нехватка продуктов питания», «строгие правила питания», «дефицит продуктов питания», «болезни из-за недоедания», но ничего больше. В конце 1932 года советские чиновники даже навещали Дюранти дома, заставляя его нервничать.
В такой атмосфере мало кто из них был склонен писать о голоде, хотя все знали о нем.«Официально голода не было», — писал Чемберлин. Но «для любого, кто жил в России в 1933 году и держал глаза и уши открытыми, историчность голода просто не ставится под сомнение». Сам Дюранти обсуждал голод с Уильямом Стрэнгом, дипломатом британского посольства, в конце 1932 года. Стрэнг сухо сообщил в ответ, что корреспондент New York Times «просыпался для истины в течение некоторого времени», хотя он не «позволял великая американская общественность в секрете ». Дюранти также сказал Стрэнгу, что, по его мнению, «вполне возможно, что до 10 миллионов человек прямо или косвенно умерли от нехватки еды», хотя это число никогда не фигурировало ни в одном из его отчетов.Нежелание Дюранти писать о голоде могло быть особенно острым: эта история поставила под сомнение его предыдущие положительные (и отмеченные наградами) репортажи. Но он был не один. Юджин Лайонс, московский корреспондент United Press и одно время увлеченный марксистом, спустя годы написал, что все иностранцы в городе хорошо осведомлены о том, что происходит на Украине, а также в Казахстане и Поволжье:
Правда состоит в том, что мы не искали подтверждения по той простой причине, что у нас не было никаких сомнений по этому поводу.Есть факты, слишком большие, чтобы требовать подтверждения очевидцев. … Внутри России этот вопрос не обсуждался. Голод воспринимался как нечто само собой разумеющееся в наших непринужденных разговорах в отелях и в наших домах.
Все знали, но никто об этом не упомянул. Отсюда необычная реакция как советского истеблишмента, так и московской прессы на журналистскую выходку Гарета Джонса.
Джонс был молодым валлийцем, которому было всего 27 лет во время его поездки в Украину в 1933 году.
Возможно, вдохновленный его матерью — в молодости она была гувернанткой в доме Джона Хьюза, валлийского предпринимателя, основавшего украинский город Донецк — он решил изучать русский, а также французский и немецкий языки в Кембридже. Университет. Затем он устроился личным секретарем Дэвида Ллойда Джорджа, бывшего премьер-министра Великобритании, а также начал писать о европейской и советской политике в качестве внештатного сотрудника. В начале 1932 года, до того, как был введен запрет на поездки, он отправился в советскую деревню (в сопровождении Джека Хайнца II, наследника кетчуповой империи), где он спал на «кишащих клопами этажах» в сельских деревнях и стал свидетелем зарождения мира. голод.
Весной 1933 года Джонс вернулся в Москву, на этот раз с визой, выданной ему в основном на том основании, что он работал на Ллойд Джорджа (на ней было написано «Besplatno» или «Gratis» в знак официального советского расположения. ). Иван Майский, советский посол в Лондоне, стремился произвести впечатление на Ллойд Джорджа и лоббировал интересы Джонса. По прибытии Джонс сначала обошел советскую столицу и встретился с другими иностранными корреспондентами и официальными лицами. Лайонс запомнил его как «серьезного и дотошного человечка… из тех, кто носит блокнот и беззастенчиво записывает ваши слова, пока вы говорите.Джонс встретился с Уманским, показал ему приглашение от генерального консула Германии в Харькове и попросил посетить Украину. Уманский согласился. С этой официальной печатью одобрения он отправился на юг.
«Хлеба нет. У нас не было хлеба больше двух месяцев. Многие умирают ».Джонс сел в поезд в Москве 10 марта. Но вместо того, чтобы ехать до Харькова, он сошел с поезда примерно в 40 милях к северу от города. Неся рюкзак, наполненный «множеством буханок белого хлеба с маслом, сыром, мясом и шоколадом, купленными за иностранную валюту», он пошел по железнодорожным путям в сторону Харькова.За три дня без официального сопровождающего и сопровождения он прошел более 20 деревень и колхозов в разгар голода, записывая свои мысли в записные книжки, которые позже сохранила его сестра:
Я пересек границу из Великой Руси в Украина. Везде разговаривал с крестьянами, которые проходили мимо. У всех была одна и та же история.
«Хлеба нет. У нас не было хлеба больше двух месяцев. Многие умирают ». В первом селе картофеля не осталось, а в магазине бурак («свекла») кончились.Все говорили: «Скот умирает, нечево кормить» [кормить нечем]. Раньше мы кормили мир, а теперь голодны. Как мы можем сеять, когда лошадей осталось мало? Как мы сможем работать в поле, если мы будем слабыми от недостатка пищи? »
Джонс спал на полу крестьянской избы. Он делился своей едой с людьми и слышал их истории. «Они пытались отобрать у меня иконы, но я сказал, что я крестьянин, а не собака», — сказал ему кто-то. «Когда мы верили в Бога, мы были счастливы и жили хорошо.Когда они пытались покончить с Богом, мы проголодались ». Другой мужчина сказал ему, что не ел мяса уже год.
Джонс увидел женщину, которая шила домотканую ткань для одежды, и деревню, где люди ели конину. В конце концов, он столкнулся с «милиционером», который попросил показать его документы, после чего полицейские в штатском настояли на том, чтобы сопровождать его на следующем поезде до Харькова и проводить до дверей консульства Германии. Джонс, «радуясь моей свободе, вежливо попрощался с ним — анти-кульминационный момент, но долгожданный.
В Харькове Джонс продолжал делать записи. Он наблюдал, как тысячи людей выстраиваются в очереди за хлебом: «Они начинают выстраиваться в очереди в 3–4 часа дня, чтобы на следующее утро в 7 часов получить хлеб. Холодно: много градусов мороза». Он провел вечер в театре — «Аудитория: много помады, но нет хлеба» — и рассказал людям о политических репрессиях и массовых арестах, которые прокатились по Украине одновременно с голодом. Он позвонил коллеге Уманского в Харькове, но так и не смог поговорить с ним.Он незаметно выскользнул из Советского Союза. Несколькими днями позже, 30 марта, он появился в Берлине на пресс-конференции, вероятно, организованной Полом Шеффером, журналистом Berliner Tageblatt , который был выслан из СССР в 1929 году. Он заявил, что в Советском Союзе царит голод. Union и выпустила заявление:
Везде был крик: «Нет хлеба. Мы умираем ». Этот крик доносился со всех концов России, из Волги, Сибири, Белоруссии, Северного Кавказа, Средней Азии…
«Мы ждем смерти» — мое приветствие: «Видите, у нас все еще есть корм для скота.Идите дальше на юг. Там у них ничего нет. Во многих домах нет уже мертвых людей », — кричали они.
Пресс-конференция Джонса была подхвачена двумя высокопоставленными американскими журналистами из Берлина: The New York Evening Post («Голод охватывает Россию, миллионы умирают, бездельничают на подъеме, — говорит британец») и в газете Chicago Daily Новости («Голод в России теперь столь же велик, как голод 1921 года, — говорит секретарь Ллойд Джорджа»). Дальнейшие синдицирования последовали в большом количестве британских публикаций.В статьях объяснялось, что Джонс совершил «длительную пешеходную экскурсию по Украине», цитировал его пресс-релиз и добавил подробности массового голода. Они отметили, как и сам Джонс, что он нарушил правила, которые сдерживали других журналистов: «Я бродил по черноземному региону, — писал он, — потому что когда-то это были самые богатые сельхозугодья в России, а корреспондентам запрещалось пойти туда, чтобы лично увидеть, что происходит ». Джонс опубликовал еще десяток статей в London Evening Standard и Daily Express , а также в Cardiff Western Mail .
Британская библиотека через Bridgeman ImagesВласти, оказавшие услугу Джонсу, были в ярости. Литвинов, министр иностранных дел СССР, сердито пожаловался Майскому, используя язвительный литературный намек на знаменитую пьесу Гоголя о мошеннике-бюрократе:
Поразительно, что Гарет Джонсон [sic] выдал себя за Хлестакова и сумел получить все это. вы будете играть роли местного губернатора и различных персонажей из The Government Inspector .Фактически, он просто обычный гражданин, называет себя секретарем Ллойд Джорджа и, очевидно, по предложению последнего запрашивает визу, а вы в дипломатическом представительстве, вообще не проверяя, настаиваете на том, чтобы [ОГПУ] приступило к действиям, чтобы удовлетворить его запрос. Мы оказали этому человеку всевозможную поддержку, помогли ему в работе, я даже согласился с ним встретиться, и он оказался самозванцем.
Сразу после пресс-конференции Джонса Литвинов объявил еще более строгий запрет на выезд журналистов за пределы Москвы.Позже Майский пожаловался Ллойд Джорджу, который, согласно докладу советского посла, дистанцировался от Джонса, заявив, что он не спонсировал поездку и не посылал Джонса в качестве своего представителя. Во что он действительно верил, неизвестно, но Ллойд Джордж никогда больше не видел Джонса.
Московская пресса разозлилась еще больше. Конечно, ее члены знали, что то, что сообщил Джонс, было правдой, и некоторые искали способы рассказать ту же историю. Малкольм Маггеридж, в то время корреспондент Manchester Guardian , только что переправил через дипломатическую почту три статьи о голоде из страны. Guardian опубликовал их анонимно, с большими сокращениями, сделанными редакторами, которые не одобряли его критику СССР, и, появившись в тот момент, когда в новостях преобладали приходы Гитлера к власти, они в значительной степени игнорировались. Но остальная часть прессы, зависящая от официальной доброй воли, сплотилась против Джонса. Лайонс скрупулезно описал то, что произошло:
Свергнуть Джонса было столь же неприятной задачей, какой выпало на долю любого из нас за годы подтасовки фактов в угоду диктаторским режимам — но мы сбросили его, единогласно и почти идентично двусмысленным.Бедный Гарет Джонс, должно быть, был самым удивленным человеческим существом на свете, когда факты, которые он так старательно собирал из наших уст, были завалены нашими отрицаниями. … Было много торгов в духе джентльменских компромиссов под сияющей позолоченной улыбкой Уманского, прежде чем был выработан формальный отказ. Мы признались достаточно, чтобы успокоить нашу совесть, но окольными фразами, которые осудили Джонса как лжеца. Покончив с грязным бизнесом, кто-то заказал водку и закуски.
Состоялась ли когда-либо встреча между Уманским и иностранными корреспондентами, она метафорически резюмирует то, что произошло потом. 31 марта, всего через день после выступления Джонса в Берлине, Дюранти ответил. «Русские голодны, но не голодают», — гласил заголовок New York Times «». Статья Дюранти изо всех сил пыталась высмеять Джонса:
Из британского источника в американской прессе появляется большая пугающая история о голоде в Советском Союзе, где «тысячи уже умерли, а миллионам угрожает смерть и голод.Его автором является Гарет Джонс, бывший секретарь Дэвида Ллойд Джорджа, который недавно провел три недели в Советском Союзе и пришел к выводу, что страна, как он сказал писателю, «находится на грани грандиозного краха». Мистер Джонс — человек острого и активного ума, и он потрудился выучить русский язык, на котором говорит довольно бегло, но писатель подумал, что суждение мистера Джонса было несколько поспешным, и спросил его, на чем оно основано. Оказалось, что он совершил 40-мильную прогулку по деревням в окрестностях Харькова и нашел условия для грустных.
Я предположил, что это было неадекватное сечение большой страны, но ничто не могло поколебать его убежденность в надвигающейся гибели.
Дюранти продолжил, используя выражение, ставшее впоследствии печально известным: «Грубо говоря, нельзя приготовить омлет, не разбив яйца». Далее он объяснил, что провел «исчерпывающее расследование» и пришел к выводу, что «условия плохие, но голода нет».
New York Times через Penguin Random HouseВозмущенный, Джонс написал письмо редактору Times , терпеливо перечисляя свои источники — огромное количество опрошенных, в том числе более 20 консулов и дипломатов, — и нападая на московскую прессу:
Цензура превратила их в мастеров эвфемизма и преуменьшения.Следовательно, они дают «голоду» вежливое название «нехватка продовольствия», а «голодная смерть» смягчается, чтобы читать как «массовая смертность от болезней из-за недоедания …
И на этом вопрос остановился. Дюранти превзошел Джонса: он был более известным, более читаемым, более заслуживающим доверия. Он также не был оспорен. Позже Лайонс, Чемберлен и другие выразили сожаление по поводу того, что они не боролись с ним упорнее. Но в то время никто не встал на защиту Джонса, даже Маггеридж, один из немногих московских корреспондентов, осмелившихся выразить подобные взгляды.Сам Джонс был похищен и убит китайскими бандитами во время репортажной поездки в Монголию в 1935 году.
«Русские голодны, но не голодают» стало общепринятой мудростью. Это также хорошо совпало с жесткими политическими и дипломатическими соображениями момента. Когда 1933 год сменился 1934 годом, а затем 1935 годом, европейцы стали еще больше беспокоиться о Гитлере. К концу 1933 года новая администрация Рузвельта активно искала причины игнорировать любые плохие новости о Советском Союзе. Команда президента пришла к выводу, что события в Германии и необходимость ограничить японскую экспансию означают, что, наконец, Соединенным Штатам пора установить полные дипломатические отношения с Москвой.Интерес Рузвельта к централизованному планированию и к тому, что он считал большими экономическими успехами СССР (президент внимательно прочитал доклад Дюранти), побудил его поверить в то, что существуют и прибыльные коммерческие отношения. В конце концов сделка была заключена. Литвинов прибыл в Нью-Йорк, чтобы подписать его, в сопровождении Дюранти. На пышном банкете в честь советского министра иностранных дел в отеле Waldorf Astoria Дюранти был представлен 1500 гостям. Он встал и поклонился.
Последовали бурные аплодисменты.Имя Дюранти, о котором позже сообщал New Yorker , спровоцировало «единственное по-настоящему продолжительное столпотворение» вечера. «Действительно, создавалось впечатление, что Америка в спазме проницательности признает и Россию, и Уолтера Дюранти».


 ..)
..) ..)
..)